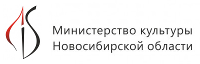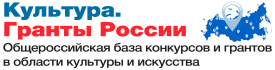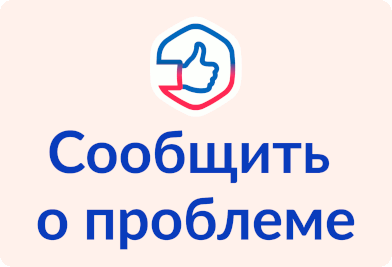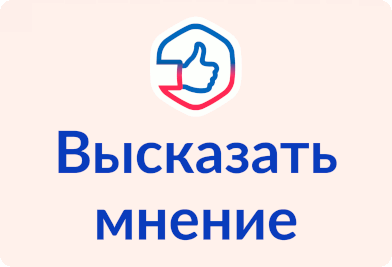Вы здесь
Черная сопка
1.
В конце августа ударили заморозки, а уже в середине сентября на пожухлую, желтую траву лег первый снег. Зима в этих широтах приходит рано. Только-только выкопали картошку, но в полях еще сидели капуста, свекла, морковка. Когда чуть потеплело, жители поселка вышли на подхозное2 поле убирать последний урожай. Разговоры велись в основном о хлебе — муку в Подъемный не завозили уже с месяц. У людей, конечно, были запасы круп: гречки, пшена, риса... Хлеба не было. Частенько вместо него пекли драники из картошки.
Слухи в поселок проникали один противоречивее другого. По всем меркам, в Подъемном не должно было случаться перебоев с продовольствием, ведь район обеспечивал край, да и всю страну лесом, золотом, богатством сибирской тайги. Краевое начальство давало разгон районному. «Илимками3 вывозим лес и пиломатериалы, а муку завезти не можем!» — бушевали в крае. По радио передавали о чем угодно, только не о жестокой засухе 1963 года. Целину подняли, но хлеба в СССР не хватало. Списывали это на происки империалистов. Народ же валил все на Никиту Хрущева, на его авантюру с кукурузой. По весне как-то завезли в поселок кукурузную муку и прошлогодние початки, но многие скормили все скоту — не привык наш народ к кукурузе.
— Тонька, а Тонька! Худоногова!
— Чего орешь, Матвей Иванович? Слышу я...
Матвей Иванович, бригадир подхоза, сворачивая самокрутку с махрой, крякнул и отдал приказание:
— Давай бери двух-трех бабенок, и шуруйте дергать свеколку! Не оставлять же это добро на зиму. И свово японца зови — поди, навозил уж воду в больницу... Антонина, слышь-ко, где твой японец?
Неподалеку в земле ковырялся Миша-китаец. Почему китайцы или японцы проживали у нас с именем Миша — неизвестно. Может, русская традиция такая — всех азиатов величать Мишами или Ванями. Ваня-китаец в поселке тоже был, развозил хлеб по магазинам, а в остальное время никому на глаза не показывался. У него был принцип: работы нет — сиди дома.
Миша-китаец имел характер скрытный, угрюмый, был жаден до денег и никому так просто в долг не давал. Говорили, что он еще в конце тридцатых годов перешел советско-маньчжурскую границу с отрядом хунхузов, а потом то ли отстал от них, то ли специально сбежал и завербовался на золотые прииски. После по болезни ушел оттуда и стал работать конюхом в Подъемном — на конном дворе, где насчитывалось около двухсот лошадей, которые являлись основной тягловой силой в поселке. Разговаривал Миша-китаец с причмокиванием, оголяя длинные, как у лошади, плоские, пропитанные махоркой зубы, и намеренно коверкал русские слова. Чай пил строго китайский, черный или зеленый; краснодарского не признавал, а от грузинского страшно плевался, называл его грузинским навозом. Потихоньку попивал русскую водочку, но пьяным его никто не видел.
Тонькин же японец, тоже Миша, по-русски говорил чисто, одевался опрятно, от работы не отлынивал — он возил на грузовике воду в больницу и кочегарку, которая эту больницу отапливала, — и в жадности замечен не был. В Подъемном его уважали, хоть и считали чудаковатым, как всякого иноземца.
Когда в октябре по речке пошла осенняя шуга, в пекарню пришли три машины с мукой. Уже в пятом часу утра у дверей образовалась очередь, и плохая погода не помешала. Здесь была и Тонька Худоногова со своим японцем, неподалеку пристроился в очереди и китаец. Вышла заведующая пекарней Танька Лопатина, объявила, что «с дверей» хлеб продавать не будет, не имеет права, и заверила, что в поселок идет еще несколько бортовых машин с разносортной мукой. Тонька просяще посмотрела на Татьяну. Та, поймав этот взгляд и заметив замерзшего, скукожившегося Мишу-японца, подошла к ней и взяла клеенчатую сумку из холодных рук.
В дверях пекарни появился здоровый, коренастый Федор Лопатин, законный Танькин муж. При виде Федькиной фигуры у Миши-китайца вдруг отвалилась челюсть, он жалобно что-то замычал. Федор бросил в рот папиросу, подошел к китайцу, хлопнул его по плечу:
— Ты, дядь Миш, шел бы лошадь запрягать. Хлебушек-то возить некому. Петруха Соловьев вчерась жрал водку до посинения, дак он седни не может возить, может нарушить правила дорожного движенья! — и громко расхохотался.
Миша-китаец начал разводить руками, что, мол, сегодня и он не может возить.
Миша-японец дрожащими руками взял сумку с хлебом. И сжалился — протянул китайцу свежую буханку. Тот схватил ее обеими руками, начал рвать своими длинными зубами, задыхаясь и роняя крошки в грязь. Иногда останавливался, смакуя вкусно пахнущий свежий, только что из печи, хлеб.
Из-за лесистой сопки нехотя вставало осеннее солнце, разгоняя острыми лучами мрачно-стальные тучи, и вдруг Миша-японец разглядел вдали на востоке гору не гору, сопку не сопку — какую-то возвышенность, что-то смутно ему напоминающую. Солнце поднялось еще выше — и та гора засияла, заискрилась, ослепительно загорелась миллионами звезд и рассыпалась мелкими блестками по небу...
Японец открыл глаза. Он спал стоя, всего мгновение.
Весна была ранней и дружной. С юго-запада Казахстана повеяли теплые ветры. В Подъемном совсем по-другому забурлила жизнь. Женский день отметили с размахом — в стареньком местном клубе, с плясками и песнями под гармошку, гитару и мандолину. В кинозале крутили узкоформатное кино, широкого экрана еще не было. У многих в домах имелись радиолы «Латвия», «Урал», у кого-то — старенькие «Даугава», «Заря», «Кама». Радиолу ставили на подоконник, на диск водружали пластинку, открывали окно — и улица взрывалась музыкой. И казалось, нет никакого горя и быть не может!
Федька Лопатин кинул самодельную антенну на крышу, и его радиола ловила на коротких волнах не только Москву и Красноярск, но и зарубежные радиостанции. Помог Федька и своему соседу Матвею Ивановичу в установке радиоантенны, и Матвей Иванович скрипуче смеялся, когда слышал иностранную речь. Телевидения в поселке не было, одна забава — кино да музыка.
Жили люди, жили и работали. Ремонтно-механические мастерские выполняли заказы для приисков и дражного флота. Вела исследования геологоразведка, работал кирпичный завод, пилорама. Подсобное хозяйство выращивало в полях картофель, капусту, свеклу, в парниках в небольшом количестве зрели огурцы и помидоры. Когда по весне вскрывались реки, из центра приходил караван барж с продуктами, топливом, техническим оборудованием. С предприятий района собирали бригады крепких мужиков и отправляли разгружать баржи. После грузы развозили по поселкам, приискам и драгам.
И внезапно, как гром средь ясного неба, пришла молва — с советско-китайской границы в район привезли трех военнослужащих в цинковых гробах. Пограничные стычки на границе начались задолго до конфликта на Даманском. Мужики, которые были в запасе, посмурнели, забеспокоились. Как-то враз умолкла музыка, народ ходил угрюмый и задумчивый.
У Миши-китайца, чей транзисторный приемник «Альпинист» свободно ловил на коротких и средних волнах китайские станции на русском языке, как-то враз выровнялась впалая грудь, разгладились на желтом лице морщины. Он стал чаще улыбаться и здороваться, даже денег давал в долг и говорил при этом:
— Когда будут — отдашь.
У Миши-японца в кадушке, где Тонька когда-то держала фикус, раскрылись бутоны на молодой вишенке. Тонька с Мишей пытались высадить вишенку в огороде, но она не прижилась, а вот в доме — засияла, зацвела и заблагоухала. Японец мог часами наблюдать за ее цветением. Нежные бело-розовые цветы напоминали ему далекую родину. В Японии, когда зацветает сакура, об этом даже сообщают по радио. Глядя на деревце, Миша мог забыть про работу, про свою «ласточку», про больницу. Очнувшись от красивого видения, доставал из ледника рыбу-чавычу, резал пластиками, наливал в рюмку самодельного саке, вешал на стену картину с видом горы Фудзиямы, расстилал голубой коврик, закрывал глаза и что-то напевал про себя. Тонька в это время старалась его не трогать и не занимать хозяйственными делами. Знала — бесполезно.
Миша-японец поднялся с коврика, поклонился Тоньке в пояс и протянул ей блюдце с нарезанной рыбой и стопкой домашнего саке.
— Выпей и закуси! — резко и гортанно бросил он.
Тонька в ответ тоже поклонилась:
— Благодарю тебя, Мариока-сан...
— Не повторяй больше этого имени, — с угрозой в голосе произнес Миша-японец. — Никогда! Слышишь?..
Было около десяти часов вечера, когда со двора послышался звук падающей поленницы. На пороге вырос Петруха Соловьев, возчик хлеба, за ним маячили еще две фигуры. Тех двоих Миша-японец уже видел, но не помнил точно где.
— Здоров, дя-я Миш! — громко рявкнул Петруха. — Привет, Антонина...
— Здорова, Петька, здорова! Чего нада?
— А че есть? — прищурился Петруха. — Мне б, дя-я Миш, денежек... рублишка два, а? С аванса ей-бо отдам...
— Два рубля дам, больше не дам! — быстро проговорил Миша-японец. — Получку-то пропил?
— Не-а, в дело пошла, — заверил его Петруха. — Вот, поиздержался весь. Да и каки таки деньги — так, мелочовка...
— Хорошо работать нада!
Миша полез в кошелек за деньгами. Из-за Петрухиного плеча появилось угреватое, с отекшими щеками, лицо приятеля. Тот с некоторым удивлением уставился на тугой кошелек хозяина. Тонька сразу поняла, что дружки искали на опохмелку.
Миша-японец протянул Петьке два рубля: один бумажный, другой железный, с изображением Воина-освободителя со спасенной девочкой на руках. У Петрухиного приятеля аж глазенки заблестели. Тонька насторожилась. Лохматая рыжая лапа потянулась к семейному капиталу.
— Можа, ешшо дашь, а, дя-я Миш? Хоть рупь, а? — сделал жалостливое лицо Петруха.
— Нет, — заупрямился японец. — Нам вещи покупать нада.
— «Нада-нада»! — передразнил японца Петрухин приятель. — А нам выпить «нада»!
— Магазины закрыты, где возьмете? — влезла Тонька.
— Бражки с самогонкой у Петровны купим, — сказал Петруха.
— А не облюетесь? — ехидно спросила Тонька. — Ты лапу-то опусти!..
Третий мужик встал в дверях, закрыв собой весь проем.
— Скока там у него? — угрюмо спросил он.
У Петрухи Соловьева вдруг забухало сердце. На явный грабеж они не договаривались. Он заканючил, загундосил:
— Вот... ребята приехали с вахты... с прииска «Блуждающий»... Завтра у них получка, завтра и отдадут...
Миша внимательно следил за каждым движением незваных гостей.
— У мужиков колосники горят. Дя-я Миш, добавь еще, а? — плаксиво упрашивал упрямого японца Соловьев.
— На! Больше не дам, — прорычал Миша и кинул в потную Петрухину ладонь замусоленный бумажный рубль.
Здоровяк внезапно перехватил кисть японца, сжал ее до синевы и потянул на себя. Узкое Мишино лицо побагровело, глаза стали совсем темными, в них заиграли бесы. Тонька наклонилась к топившейся печке за поленом, японец же сбросил домашние тапочки...
Тонька не поняла, что произошло. Она еще никогда не видела своего японца таким злым и таким сильным и яростным. Миша подпрыгнул на высоту своего роста — и здоровяк пал на колени, натужно хватая воздух, удивленно вращая поросячьими глазками. Но кошелек с деньгами из рук не выпустил. Потом он сделал глубокий вздох, опрокинулся на спину и задергал, как в припадке, обеими ногами.
Второй Петрухин приятель своим весом на лету вышиб дверь, что-то сбил в сенях, пересчитал ребрами ступеньки крыльца и ткнулся носом в застывший наст. Из его носа ручьем хлынула кровь.
Японец оглянулся на Соловьева:
— Еще рубль?!
У Петрухи враз куда-то ушло похмелье.
Здоровяка еле откачали. Зажав в кулаке данные японцем три рубля, собутыльники быстро ушли.
И все бы этим и кончилось, если бы слухи о стычке не дошли до ушей участкового милиционера Славки Богинского. Славка часто участвовал в межрайонных соревнованиях по боксу в полутяжелом весе и брал первые места. Он вызвал Мишу-японца к себе в кабинет в поссовете и долго разговаривал с ним. О чем — неизвестно. Но по поселку поползли слухи, что Миша учит Славку приемам японской борьбы карате.
Навозив воды в больницу и кочегарку, Миша-японец пошел в магазин купить хлеба. В очереди стоял Миша-китаец и чему-то бессмысленно улыбался — его щеку пересекал свежий кровавый рубец. Оказывается, это Тонька съездила его скрученной сеткой-авоськой по лицу. За что? За то, что он в очереди открыто заявил:
— Скора наша придет!
Ему напомнили в ответ: ваши, уж если и придут, то передо́хнут от жестоких пятидесятиградусных морозов.
Миша-китаец в ответ:
— Мы русских баб на утеплители для шуб пустим.
За что и получил от Тоньки по плоской морде.
На дворе был апрель 1969 года.
Невыносимое для сибиряков знойное и душное лето 1975 года.
В поселок Подъемный привезли фильм-катастрофу «Гибель Японии». Народу, что удивительно, собралось немного. В фойе ждал начала сеанса бодренький Миша-японец и с ним — изрядно постаревшая Антонина Худоногова. В зале Миша-китаец, иссохший, полусогнутый, с палочкой, примостился на сиденье с краешка.
Фильмы такого жанра почти не попадали на советский экран. Мощное цунами смывало города, взрывались цистерны на железнодорожных станциях, проваливались в бездну автомобили, падали небоскребы, корежилась и горела земля, и везде — огонь, черный дым, кровь и смерть под обломками...
После сеанса Миша-китаец подошел к Мише-японцу и сказал вкрадчиво:
— Скора-скора наша придет...
Миша-японец резко вскинул руку, сказал быстро и твердо:
— Скорее Токио скроется под водой, чем ваши в СССР придут! Погибнет Япония — сгинет и Китай... А там — и весь мир!
В марте 1979 года в поселок пришло телевидение, но люди все равно ходили в кино, так как по телевизору мало что можно было посмотреть — в Подъемном антенна брала только одну программу. Народу быстро поднадоели ударники коммунистического труда и шамкающий на трибуне Леонид Ильич Брежнев. Киносеанс в клубе теперь начинался в двадцать один час десять минут — сразу после телефильма — и длился до программы «Время».
Миша-китаец ушел в мир иной как-то незаметно и тихо. На следующий день его по-быстренькому похоронили. В загашнике у него нашли несколько тысяч рублей, почти половина ушла на похороны, остальные — неизвестно куда.
Миша-японец вышел на пенсию с пятьюдесятью двумя рубля в месяц, но работу не оставил и продолжал возить воду в больницу.
В середине семидесятых из продажи начали исчезать некоторые продукты: колбасные изделия, тушенка со сгущенкой, мясо. Говядину и свинину теперь продавали строго по прописке в паспорте. При этом никакого «застоя» в поселке не наблюдалось. Все так же дымили механический и кирпичный заводы, работал дражный флот, изысканиями занималась геологоразведочная партия, в подхозе выращивали богатый урожай. Новая, построенная недавно скотоферма давала всему району молоко. Правда, местную теплоэлектростанцию закрыли, и теперь электричество получали из края. Частыми стали перебои со светом. Однажды в Новый год поселок просидел без электричества двое суток. В таких случаях говорили: «Медведь поднялся из берлоги почесаться о столб».
В мае 1985 года Миша-японец серьезно заболел. И Антонина сдала, постарела. Ее однажды чуть не задавили в дежурном магазине в очереди за водкой. Она настаивала на водке лечебные таежные травы и поила этой настойкой своего японца. К началу лета ему стало получше и он стал чаще выходить на улицу — посидеть на завалинке, погреться на ярком, но еще совсем не летнем солнышке. А на дворе-то — июнь!
Девятого июня внезапно пошел снег, перейдя затем в мелкий и противный дождь. А десятого было уже плюс двадцать девять! Вот и пойми эту погоду...
Миша-японец не мог долго работать в огороде, так что пласталась теперь одна Антонина. У Миши болели ноги, болело сердце, болела душа, предвещая что-то нехорошее. Он вешал на стену картину с видом Фудзиямы и долго смотрел на нее, вспоминая что-то.
— Говорят, караван большой из Красноярска пришел с вином и водкой, будут в «дежурке» давать по две бутылки портвейна и по две — водки в одни руки, — по-молодому, без умолку тараторила Антонина. — Можа, купить?
Миша-японец только кивнул.
— «Кавказ» иль «Три семерки»?
— Все равно.
— А на улке-то теплынь... Плюс восемнадцать градусов, — продолжала Антонина. И вдруг тревожно спросила: — Ты куда-то собрался?
— Пройтиться мне нада... Плохие сны стали сниться что-то...
Антонина поняла, что ее Миша болен серьезно.
Вокруг мехмастерских по всему периметру тянулся высокий дощатый забор с проржавевшей колючей проволокой. Посередине завода — стальная, метров сорок с лишком, труба котельной. На фасаде первого корпуса мастерских из белого кирпича было выложено: «1949». Напротив завода, через грунтовую дорогу, — открытый карьер, где брали глину для кирпичей, а на вершине того карьера, на горе, в густом ельнике — заброшенное кладбище японских военнопленных, живших и работавших когда-то в Подъемном. Могилы с погнутыми и раскуроченными памятными знаками заросли и провалились, на поверхности валялись сгнившие доски гробов, человеческие черепа, разрозненные кости. Сюда частенько наведывалась местная шпана, разрывала могилы, надеясь на какую-нибудь ценную находку.
Здесь где-то была могила Сато Юкио, капрала пехоты императорской армии Японии. Миша старался никогда не вспоминать прошедшие годы, но память гнала его сюда все чаще и чаще. Загадочная память человеческая...
Если бы не Тонька Худоногова, лежать бы Мише, лейтенанту Мариоке, рядом с капралом.
Сидел он на ярком солнышке, расстелив на гладком, будто отполированном, валуне газету, с бутылкой водки, свежей черемшой, раскрытой банкой сайры, хлебом. С этой точки был виден почти весь поселок Подъемный. Миша-японец всматривался в таежный горизонт, смотрел на восток, где каждое утро вставало красное солнце. Жизнь-то, она дорога дальняя — то прямая, то с неожиданными поворотами. Давно, очень давно отцвела и погибла его сакура у подножия горы Фудзиямы...
Он вдруг внутренним чутьем почувствовал сзади опасность и медленно, как его учили в императорской армии, повернул голову. Боковым зрением заметил: на него прет настоящий таежный волк. Японец хорошо рассмотрел его ребра — округлые, выпирающие. Голодный и здорово вылинявший зверь, однако, не нападал на человека, будто чего-то выжидая. Он лег на свежую, пахучую траву, положил морду между передних лап. И неожиданно, заскулив, стал покусывать травку и медленно подползать к человеку.
Японец успокаивал себя: нет, такой отощавший зверь вряд ли нападет. Волк поскуливал и голодными желтыми глазами как бы укорял Мишу. Он просил помощи! Слабых гонят из стаи, ведь они не приносят добычи. Миша бросил в его сторону кусок хлеба — и волк, подпрыгнув и поджав хвост, стремительно скрылся в тайге. Вот вам и волчья слабость!
По косогору поднимался человек. Миша в последнее время плохо видел, глаза стали подводить, но эту фигуру он узнал бы из тысячи.
Иван Будник, заметив японца, как бы споткнулся, стал сучить пальцами в кармане, никак не мог достать пачку «Беломора».
«Грехи замаливать пришел», — подумал Миша. А может, Будник увидел, что он поднимается к кладбищу японских военнопленных, и пошел за ним, надеясь на опохмелку? Пил Иван по-черному, особенно после горбачевско-лигачевского указа. Крохотную пенсию пропивал начисто, иногда забывая купить продуктов в дом, сидел без денег и без хлеба. И это несмотря на то, что водку было трудно купить — ежедневно к часу дня у дежурного магазина уже выстраивалась очередь жаждущих и страждущих человек в пятьдесят.
— Здорово, самурай! — небрежно и недоброжелательно поздоровался Будник.
— Здорова, Ванька... Чего нада?
— Сначала налей.
— Пей, мне не жалко. — Японец налил ему «Пшеничной» в граненый стакан, больше половины.
Будник быстро опрокинул водку, погладил себя по животу, произнес тихо:
— Пошла, родимая...
— Чего пришел, Иван? Совесть заела?
Сколько жил Иван Будник в Подъемном, всегда старался обходить японца стороной и не смотреть ему в глаза.
— Сны стали страшные сниться... почему-то...
— Водку нада жрать меньше, — с укором в голосе сказал Миша-японец.
— А ты чего притащился сюда? — Будник начал приходить в себя.
— Товарищей по лагерю вот вспоминал. И тех, которых ты, Иван, лично расстреливал.
— У меня приказ был.
— Не ври! Как это у вас, у русских, говорят: умел сплоховать — умей и ответ держать?
— Ишь ты, смелый какой! Да ежели бы не Тонька Худоногова...
— Не трогай Тоньку! — грозно рявкнул Миша-японец. — Не тебе, собаке, судить ее!
По вершинам деревьев прошелся сухой и теплый ветерок, от поселка запахло дымом. Из тайги выскочила большая стая тощих и облезлых, вылинявших волков.
2.
...Медленно краснел восток. Морозный туман покрывал все пространство. Рассвет почему-то долго не приходит. Может, он вообще не придет и люди будут жить в темноте?
Чем дальше удалялся состав на запад, тем медленнее вставало багровое солнце. Сквозь узкую щель скрипучего, рассохшегося вагона он почти ничего не видел в бескрайней темной ночи. На станциях мелькали одинокие огоньки, раздавались окрики и команды конвойных, лай злющих овчарок. Пленных везли в неизвестность. Печки, сделанные из железных бочек, вагон не обогревали. Японские солдаты и офицеры жались друг к другу, стараясь сохранить остатки тепла. В Иркутске умерли сразу десять человек: заснули и не проснулись. Окоченевшие тела конвойные вытаскивали уже в Тайшете, свалили прямо на рельсы, потом побросали в грузовик и увезли.
Кацу Мариока, военфельдшер, осматривал каждого в своем в вагоне. Его очень беспокоил капрал Сато Юкио, кашлявший кровью. Но после осмотра выяснилось — у капрала просто кровоточили десна и выпадали зубы.
На одной из станций в вагон бросили зачерствевшую буханку хлеба, головку чеснока и несколько луковиц:
— На, лови, япона мать!..
Мариока очистил один зубчик чеснока и дал капралу, наказав, чтобы тот сразу его не глотал, а положил под язык и стараться высасывать сок.
Кацу Мариоку призвали с медицинского факультета Токийского университета, где он учился на фельдшерском отделении. Забрали в начале 1945 года, можно сказать, прямиком с лекции. Попал он в спецбатальон, который гулял по китайским тылам, взрывая мосты, устраивая засады, уничтожал китайских командиров и при удачном исходе дела выходил к своим. Мариока вытаскивал из раненых пули, извлекал осколки, вскрывал гноящиеся раны, отпиливал ноги и руки. К лету в их батальоне насчитывалась едва ли сотня человек.
В начале августа, после пополнения, батальон перебросили в Маньчжурию. И девятого августа утром такое началось!.. Пришлось им всем забыть о диверсионных операциях и драться как обыкновенным пехотинцам. Каким-то образом русские танки оказались в тылу батальона, и здесь Мариока впервые увидел русских солдат. Он убил двоих, а на третьем выстреле «арисаку» заклинило. Кацу еще успел выхватить из кобуры восьмизарядный «намбу» и сделать несколько выстрелов. Но тут его сзади ударили прикладом ППШ и оглушили.
Потом его, бесчувственного, куда-то волокли по земле. Было совершенно нечем дышать, пыль забивала легкие, и он вскоре очнулся от собственного натужного кашля.
Русские кормили пленных хорошо: в обед давали горячее, в остальное время — воду, хлеб, комковой сахар, курящим — папиросы. Во Владивостоке военнопленные узнали об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В группе, где находился военфельдшер Мариока, были солдаты и офицеры из этих городов. Они очень тяжело переживали случившееся, и некоторые пытались сделать себе харакири. Их останавливали другие пленные, восклицая:
— Кто же будет восстанавливать и отстраивать Японию после войны?! Мы в плену, но мы живы! Мы должны вернуться!..
Колеса состава снова медленно и равномерно застучали на стыках. Рассвет удалялся, и солнце никак не хотело показываться на горизонте. Будто солнца и не было вовсе. Снаружи стояли морозы за минус тридцать. Мариока и представить себе не мог, что в Сибири так жутко холодно. Однажды в части они рассматривали карту мира, и на ней Великая Япония простиралась до Байкала. И вот — Байкал уже проехали. Сержант из конвоя проговорился, что они подъезжают к городу Канску.
Тяжело, со скрипом, открылась дверь вагона. Конвойные осветили внутренность фонариками.
— Дохлые есть?
Японцы не сразу поняли вопрос.
— Умершие есть, япона мать? — рявкнул мордатый сержант.
Мариока знал, что такое «япона мать»: он уже сносно понимал по-русски и говорил, хоть и с сильным акцентом. Он отрицательно замотал головой.
— А жаль! — оскалился мордатый. — Я бы вас всех...
Мариока выступил вперед.
— Я — лейтенант медицинской службы, военный фельдшер, — заторопился он. — Нам бы отвара из лука или чеснока...
Сержант его понял.
— Передам начальству, — буркнул он и задвинул дверь вагона.
За Канском состав снова остановился. Пленным в вагон успели забросить два ведра угля и сломанные деревянные ящики. Японцы быстро растопили железную печку. От тепла Мариоку потянуло в сон. Приснилась гора Фудзияма с подножием, которое все было покрыто цветущей сакурой. Мариока чувствовал дыхание и запах Фудзиямы.
Спал он всего ничего, проснулся от резкого толчка. О, богиня Аматэрасу!4 Солнце, его красное солнце показалось над сибирскими горами!
Завизжала-заскрипела дверь.
— Начальство разрешило выйти поразмяться, — сообщили неожиданную новость конвойные. — У кого есть ценные вещи, их можно обменять на продукты. У кого деньги — вон магазин.
Денег, понятно, ни у кого не было, про магазин нечего было и думать. А есть, конечно, хотелось здорово.
У вагонов стали потихоньку собираться местные жители. Они с опаской косились на военнопленных. Кто жалел изможденных бедолаг, кто открыто презирал.
Из ценных вещей у Мариоки были только наручные часы, бензиновая зажигалка и... все. Ему за них дали объеденную крысами свеклу, немного мерзлой картошки, хлеба, сахару, головку чеснока и две большие луковицы. Мариока разжевал чеснок и дал капралу Сато Юкио — у того по-прежнему гноились десна, и он без конца сплевывал кровавую слюну. Вдобавок капрала знобило, и Мариоке пришлось просить лекарства у дежурного фельдшера состава. Получив пару пакетиков с порошком желтого цвета, Мариока развел снадобье водой и дал выпить капралу. Вскоре Сато Юкио успокоился и уснул.
Морозный туман стоял над тайгой. Поседевшие горы отливали красно-фиолетовым, деревья закуржавели, и куржак осыпался, лишь когда на ветки садились передохнуть вороны, громко каркая, предвещая кому-то беду. Хоть картину пиши, думал Мариока, глядя на эту первозданную красоту сквозь узкое окошечко вагона. Будучи еще подростком, он увлекался рисованием и живописью и теперь старался запомнить зимний русский пейзаж.
...Три месяца шел по Транссибу от Хабаровска до Красноярского края состав с японскими военнопленными. Сколько на этом пути было похоронено японцев — неизвестно. Если где-то и есть данные, то наверняка неполные. Питались по пути тем, что давали местные жители, — русский народ отходчив и к побежденным жалостлив. К тому же в Сибири не было такого голода, как в Центральной России, которая после войны лежала в руинах.
Состав вдруг резко затормозил, и от этого толчка чуть не сошла с кирпичей железная печка. Конвойные приоткрыли дверь, чтобы проветрить вагон. Мариока уже не только понимал разговорный русский, но и знал некоторые буквы, умел складывать их и читать по слогам. Прочитал вывеску на станции: «Зыково». Подняв голову, он остолбенел — перед ним встала новая Фудзияма, только в уменьшенном размере. На этой горе почти не было снега, он лежал лишь местами. Может, это сибирский вулкан? На склонах преобладал темный цвет, силуэтом и очертаниями гора здорово напоминала символ Японии.
Несмотря на мороз, здесь тоже стали собираться люди, с удивлением присматриваясь к иноземным солдатам.
— Худющи-то каки, ужасть!
— Не кормили их, што ля?
— Э, навоевались, видать, бедняги! Зачем они здесь-то нужны?
— Работать их везут и... подыхать.
— Ндравятся тебе японцы, Валюха? Вот выйдешь замуж за японца, будешь одних япошек рожать! Га-га-га!
— У меня скоро муж с Германии приезжат, недавнось письмо получила, — степенно отвечала Валюха на дерзкие вопросы.
— Ну-ну!
Веселые, видать, местные жители. И ничего их не берет: ни голод, ни мороз, ни война, ни полуголодное житье.
— Эй, японец! Жрать хошь?
Мариока вздрогнул, повернул голову. Жестом дал понять, что плохо знает русский, и рукой показал на гору.
— Хочешь, значит, пройтись на Черную сопку? А че тебе там надо? Подснежникам еще рано, — ворковала Валюха, с интересом присматриваясь к Мариоке. А потом спохватилась: — Люди, да подайте им чего-нибудь, они же голоднющие! И замерзли все, глядите-ка! Помрут, пока доедут...
Тащили кто что мог: драные полушубки, рваные вязаные свитера, стоптанные валенки — и хлеб, квашеную капусту в банках, соленую черемшу. Какой-то мужик бросил в вагон нечто похожее формой на гранату, завернутое в широкий шарф. Когда развернули, оказалось, что в шарфе пузатая бутылка с мутной, молочного цвета жидкостью. Мариока сразу спрятал ее за печку и прикрыл тряпьем: прознают конвойные — худо будет.
Он кланялся и все приговаривал:
— Ариготэ, ариготэ! Онэгай симасу...5
И вдруг не стало у него голоса. Только обветренные губы шептали слова благодарности.
Солдат-японец лет пятидесяти, рядовой второго класса, дал Мариоке тридцатиграммовую мензурку. Фельдшер поблагодарил его кивком головы. Налил самогонки в мензурку, потом из нее — в алюминиевую чайную ложечку и дал капралу. Сато Юкио натужно закашлял, вытаращил глаза и неожиданно для всех стал непотребно ругаться.
— Еще? — спросил Мариока.
— Совсем... как наше сакэ... лейтенант! — выдавил из себя капрал.
— Значит, жить будешь.
Мариока еще в Хабаровске пытался выведать конечный путь назначения у начальника состава. Но тот, по-видимому, тоже не знал, где их высадят, только напомнил, что они едут не на прогулку. Оказалось, что остановка на станции Зыково была вызвана расстыковкой рельсов и ослаблением болтов на стыках. Из города приехало начальство, думали-гадали — не диверсия ли? Но от таких морозов и рельсы будут гнуться — ночами ртуть в термометрах опускалась ниже сорока градусов.
...И вот он, большой сибирский город, скрытый в густом морозном тумане. Состав тянулся медленно, неуклюже. Японцы тревожно прислушивались к звукам, доносившимся снаружи. Вскоре послышались окрики конвоиров и злобный, захлебывающий лай волкодавов. И тишина почти на сутки.
Пленные съели все, что у них было, лишь вода во фляжках еще оставалась. Потом выяснилось, что несколько вагонов отцепили и согнали в тупик, что встревожило еще больше. По вагонам начали ходить люди — военное и гражданское начальство пересчитывало и переписывало приехавших. Трудным и хлопотным оказалось это дело. Переводчики путались в японских выражениях, а пленные почти не знали русского, за исключением нескольких дежурных фраз. Сато Юкио еле-еле подняли с пола. Записывали поименно, спрашивали у каждого год рождения, где воевал, род войск, гражданскую специальность и не стрелял ли он в русских солдат, чем переболел в детстве и не имеет ли в настоящее время заразных болезней.
...В накуренном помещении за столом с кипами бумаг сидел смуглый капитан, напротив был еще один стол, где стояла пишущая машинка и лежали листы с уже напечатанным текстом. Тускло горела электрическая лампочка, в сложенной из кирпича печке трещали березовые поленья, на припечке примостился пузатый чайник с кипятком, возле него — две большие алюминиевые кружки. От них пахло сладко и приторно, Мариоку чуть не затошнило от этого запаха.
За пишущей машинкой сидела женщина неопределенных лет, с черным пушком над верхней губой, вида весьма строгого. Мариоке она не понравилась. На левой стороне ее гимнастерки блестели три медали, на правой — орден Красной Звезды и желтая нашивка за ранение. Мариока понял, что эта женщина где-то воевала, раз имеет награды. На плечи ее была накинута новенькая — видать, только с вещевого склада — фуфайка, на ногах — высокие, до колен, валенки.
Женщина вставила в каретку пишущей машинки два листа с копиркой между ними, нервными пальцами вскрыла пачку «Казбека» и сунула длинную папиросу в рот.
— Отвечать на вопросы четко, ясно и понятно, — сказал капитан и раскрыл папку с чистыми листами. — Наш с вами разговор будет фиксироваться печатно и письменно.
И неожиданно для Мариоки посыпались вопросы на его родном языке. Оказывается, усатая женщина неплохо говорила по-японски.
Где-то в середине разговора Мариока прервал капитана:
— Это допрос? Я вижу у вас бланки с графами...
Капитан направил свет настольной лампы в лицо японца.
— Это пока опрос, а не допрос. Беседа, так сказать... Итак, стреляли ли вы в советских солдат?
Что он мог ответить?
Капитан чесал затылок и бесконечно зевал.
— Ну куда же мне вас определить, военфельдшер? На юг поедете или на север? Сейчас в городе образуются два лагерных управления, и все будет решать спецкомиссия...
При слове «север» Мариока вздрогнул. Он уже познал погодные условия Сибири. Получается — еще севернее повезут?!
— Лес, лейтенант, валить некому, понимаете? Производство восстанавливать. Много русских мужиков с фронта не пришло. Скоро вас помоют, побреют, подстригут... и по лагерям.
— Я никогда не вернусь в Японию? — забеспокоился Мариока.
— О возвращении вас на родину решается не мной, а там... — тыча в потолок пальцем, устало сказал капитан.
Три вагона, отцепленных от состава, таким образом оказались временным жилищем для рабочей роты японских военнопленных. В этой роте оказался и Мариока — в качестве доктора. Привозили пиломатериалы, строили дощатые бараки с высокими, двухярусными нарами. Два барака было построено за неделю. Их в два периметра оцепили колючей проволокой, поставили по углам вышки с охранниками, вооруженными ручными дисковыми пулеметами Дегтярева.
Вскоре Мариока добился, чтобы Сато Юкио перевели в городской госпиталь. Оттуда в морозную и ясную погоду была хорошо видна вершина Черной сопки.
Перед Новым годом морозы чуть отпустили и в лагере начали строить отдельный, утепленный барак для пленных японских офицеров. За зиму японцы построили несколько брусовых и кирпичных двухэтажных домов для рабочих двух местных заводов. Умерших военнопленных заменяли вновь прибывшими. Кладбище располагалось рядом, за периметром лагеря.
Рабочая рота в связи с пополнением переросла в рабочий батальон. Здесь появился новый начальник с баронским титулом — подполковник Такеши Курода, пехотный офицер, на гражданке занимавшийся геологоразведкой на Южном Сахалине. Барон Курода гордился тем, что он первым открыл там несметные залежи нефти.
Ему говорили:
— Но ведь сейчас Сахалин находится в руках русских!
Барон спесиво отвечал, что русские не смогут распорядиться нефтью и что у них в настоящее время экономическая база ни к черту. Русские вообще не умеют мыслить экономически и смотреть далеко вперед.
— Но все равно, — говорил барон, — я русских уважаю — как храбрых и смелых воинов. Они выиграли эту проклятую войну.
Постепенно милитаристский дух у Куроды начал испаряться, и как-то он заметил:
— Пока жив Сталин, русский народ будет силен, а дальше — время покажет.
«Он еще и философ», — подумал Мариока.
Барона поставили во главе рабочего батальона. Теперь он каждый вечер отчитывался перед начальством о выполненной за смену работе.
Батальон разбили на роты, взводы, отделения и звенья. Весной начали строительство кинотеатра под названием «Радуга». Когда закончили, японцев сводили на фильм «Волочаевские дни». После небольшого перерыва показали немой фильм «Броненосец “Потемкин”».
По возвращении из кинотеатра их ждало многочисленное пополнение. Новеньких даже некуда было размещать — все нары были заняты. Пришлось дополнительно сшивать еще одни — посередине прохода, где стояли железные печки.
Пришла та самая усатая женщина и переписала новоприбывших. Мариоке она приказала осмотреть их всех на наличие болезней. К вечеру Мариока в сопровождении конвоя повел новичков в русскую баню. У одного на теле он разглядел странные волдыри красноватого цвета, совсем непохожие на обыкновенные фурункулы или, как их называют русские, чирьи. Впрочем, чувствовал себя этот пленный сносно и ни на что не жаловался. Опасны ли эти пятна и каково их происхождение, Мариока не знал. А через два дня за этим пленным приехали из городского военного госпиталя. Мариока начал догадываться — возможно, солдат был подопытным в исследовательском центре «Отряда 731»6.
Вскоре нагрянула большая медицинская комиссия. Выгнали всех на построение и заставили раздеться до исподнего. Среди японцев пронесся слух, что их готовят для каких-то опасных экспериментов, связанных с секретным бактериологическим оружием. Барон Курода попросил личной встречи с комендантом, капитаном Новиковым. Тот его успокоил — у комиссии и в мыслях не было делать отбор пленных для опытов.
Медики ходили по баракам, переворачивали соломенные матрасы, посыпали хлоркой и опрыскивали дезинфекционным раствором стены и полы. Старший лагерный врач записывал распоряжения комиссии в особый журнал. Капитан Новиков, нервный и злой, покрикивал на подчиненных и жадно курил.
Хотя условия на стройке были наитруднейшими, а техника безопасности почти не соблюдалась, все же, кроме пневмонии, цинги и обычной простуды, у обитателей лагеря ничего выявлено не было. А к весне начальство постаралось улучшить им питание, закупая овощи у местных жителей.
Сибирь в военные годы не испытала такого голода, как Центральная Россия. В пригородных поселках и деревнях выращивали картошку, репу, свеклу, лук, чеснок, капусту. Кустились малина, смородина, облепиха, росли деревца яблонь-ранеток. Кормила тайга, бессчетные озера и речки были полны рыбы. Многие крестьяне держали коров, овец, гусей, кур. Власть не выгребала у людей последнее, зная: если попросить для нужд фронта — те сами отдадут бесплатно, да еще с прибавкой.
Неподалеку открылся стихийный рынок. Торговали, обменивали одежду, продукты, галантерейные товары, семечки в кулях, а из-под полы — и драгоценности, нехитрую бижутерию, мыло, керосин, спички. В рыночной толпе шныряли подозрительные типы, оценивающе присматривались к товару и покупателям.
Однажды Мариока в сопровождении двоих конвоиров — сержанта Будника и ефрейтора Карымова — отправился по приказу капитана Новикова на этот рынок прикупить овощей для лагеря. Делали упор на лук и чеснок. Начальство выделило кое-какие деньги. Мариока попросил дать ему помощника — одному тяжеловато везти тележку с овощами.
Пошли вдоль рядов. Прямо на сырой земле сидел инвалид с костылями и, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то гнусавил о своей трудной судьбе. Сердобольный народ бросал ему в кепку медяки, горбушки хлеба, кусковой сахар. Поодаль другой калека выводил что-то заковыристое на трофейном немецком аккордеоне. Можно было разглядеть в толпе милиционеров, наблюдающих за порядком, здесь же толкался и военный патруль. Мариока прислушивался к русской речи, старался понять разговоры.
— Табачка не хошь, японец? — обратился к нему обросший бородой мужик, протягивая кулек с самосадом.
Мариока оглянулся на Будника с Карымовым. Те позволили.
— Папиросную бумагу еще пожалуйте, но уже за отдельную плату, — предложил тот же мужик. — Газетная бумага, она ведь вредная — в ней и свинец, и цинк... Легкие потом хрипеть будут, вона как!
— Нада табак, нада, — подтвердил Мариока по-русски.
— О, по-нашенски бурчит япошка! — заулыбался мужик. — Вот бы тебя к нам на огород нонче поработать! Дюже вы народ трудолюбивый, слыхамсь...
— Табак нада, курить, — тоже улыбался Мариока.
Но мужик уже повернулся к Буднику:
— Слышь-ко, вертухай! Ежли им не хватает витаминов, пусть они за черемшой в тайгу идут, счас самое время... Нате, вот вам! — И он откуда-то вытащил крупный пучок свежих, остро пахнущих листьев. — Бесплатно отдаю на пробу, а то они у вас совсем без зубов останутся...
— Ну, ты! — оскалился вдруг Будник. — Не лезь куды не следовает!
— Ишь та-а! Какой грозна-а-ай! — захохотал бородатый.
Неожиданно в лагерь вернулся капрал Сато Юкио. Подтянутый, порозовевший, он улыбался и, кажется, был доволен жизнью. Мариока осмотрел его и, не найдя противопоказаний по здоровью, дал назначение пока на легкие работы.
В воскресенье снова пошли на рынок закупать овощи. В этот раз Мариока попросил в помощь еще и капрала.
Казалось, что людей на рынке стало больше. Будник с Карымовым не отставали ни на шаг. Тот бородатый мужик куда-то исчез; Мариока хотел в очередной раз разжиться у него табачком — сибирский самосад показался военнопленным особенно вкусным и крепким. Задыхались, правда, кашляли, но курили.
— Капуска, капуска-а-а, квашена-а-ая! Беритя-а-а...
Будник понюхал банку с квашеной капустой у тощей торговки, чуть не задев навес винтовочным штыком, и поморщился:
— С гнильцой капуста твоя.
— Врешь ты все, вертухай! — рявкнула на него баба-торговка. — Сам, поди, никогда в земле не копался... Ишь, харю-то отожрал на харчах казенна-ах!..
Сержант Будник был не готов к такому отпору и от неожиданности отпрянул от самодельного прилавка.
— Пшли дальше! — скомандовал он.
Неожиданно сзади раздались истошные бабьи крики:
— Дяржитя яго, дяржи-и-итя-а! Ахти мне...
Мимо них, расталкивая толпу, протискивались два человека, у одного из них в грязной волосатой руке был зажат револьвер.
— Дорогу, дорогу, сволочи! Застрелю к такой-то матери! — Бандит выстрелил вверх.
У второго налетчика за спиной виднелся большой мешок, по-видимому с крадеными вещами.
Толпа завизжала, и людей будто ветром сдуло, образовалось открытое пространство. Будник пытался сорвать винтовку, но это у него не получалось. И вдруг у второго налетчика из кармана посыпались кольца, цепочки, еще что-то из драгоценностей — карманчик оказался дырявый!
— Убью! — дыхнул на Мариоку чесноком первый грабитель, показав прокуренные желтые зубы. А второй быстро-быстро стал запихивать драгоценности обратно в карман.
Рядом истошно завопили бабы:
— Дезертиры из тайги выходют, дезертиры! Им в тайге счас жрать нечего! Весна ведь...
Это слово Мариока уже знал. «Дезертир» значит «изменник, предатель». Сам он, сколько служил в императорской армии, предателей там не наблюдал, ни у кого и в мыслях не было изменить родине и императору.
Народ на рынке орал, визжал и разбегался в разные стороны от греха подальше — не дай бог, привлекут как соучастника. Пуля из револьвера прострелила колено какой-то женщине — та страшно заверещала. Мариока, бросив тележку с овощами, в три прыжка догнал стрелка и особым приемом выбил у него оружие. Револьвер, описав в воздухе дугу, упал на открытый прилавок, отскочил, и его тут же подхватил какой-то бойкий мужичонка. Налетчик согнулся, как в поклоне, упал на колени, и Мариока нанес ему сокрушительный удар ребром ладони по шее, так что у того брызнула кровь изо рта. Второй грабитель куда-то исчез.
Будник с Карымовым завороженно наблюдали за схваткой японца с русским бандитом. Опомнившись, они навалились на последнего и стали заворачивать ему руки назад. И как это худой полуголодный японец справился с крепким таежным мужиком?
— Посчитаемся... Я тебя запомнил! — выплюнув несколько зубов, прошамкал бандит.
— Да они все у нас в лагере на одну морду, — ощерился Будник, держа его под прицелом винтовки, — узкоглазые...
— Да не скажи, вертухай. У него харя-то японская, а глаза — русские.
И действительно, глаза у Мариоки были темно-карие, но не узкие — встретишь такого на улице и не скажешь, что он японец.
Вскоре появились милиционеры и увели связанного налетчика. Будник, покосившись на Мариоку, сказал:
— Думаешь, тебе поблажка какая-то будет? — И сам же пожал плечами. — Не знаю, не знаю...
О происшествии доложили наверх... что на стихийном рынке с помощью двоих конвойных лагеря японских военнопленных был задержан особо опасный бандит. Про японского же «милитариста» даже не упомянули. Вечером в лагере было общее построение — распределяли на работы в понедельник и объявили благодарность за бдительность Буднику с Карымовым. Мариока только поморщился, точно от зубной боли.
Он принес лагерному начальству список легкобольных — просил их освободить от тяжелых работ на стройке и кирпичном заводе. И тут же, при нем, пришла разнарядка сверху: жители окрестных поселков просили выделить благонадежных пленных им в помощь для копки огородов и постройки теплиц.
Мариока не захотел сидеть в медицинском кабинете и попросил Новикова отправить его в поселок.
— А не убежишь? — Новиков кольнул фельдшера взглядом.
— Некуда бежать. Далеко, — коротко ответил Мариока.
— Я тебе доверяю, господин лейтенант, — неожиданно признался Новиков. — Тебя отвезут в поселок Торгашино, там хозяевам надо вскопать огород и посадить картофель. Но к десяти часам, к вечерней поверке, чтоб был как штык, понял?
— Понял, господин капитан!
Хозяева, к которым отправили Мариоку, жили в достатке, несмотря на недавно прошедшую войну. Японец оценил это с первого взгляда. Бревенчатая изба, хозяйственные постройки, домашний скот: корова, несколько овец, куры, гусиный выводок. Ухоженный двор — видна заботливая хозяйская рука. Возле избы неприметно прилепилась банька — не отличишь от жилой пристройки.
Хозяин, Яков Иванович Злобин, сидел на длинной лавке, устланной вязаными ковриками, и смолил самокрутку. Мариока с Будником чуть не задохнулись от горьковато-сладкого дыма самосада. Фельдшер уперся взглядом в давно не крашенный пол, чувствуя себя здесь неуютно. Ведь он им все-таки враг... Но через пару минут неловкость стала пропадать, он принялся осторожно, точно вор, обшаривать глазами внутреннее убранство избы. По-видимому, недавно сложенная печь с чугунной плитой, кружками и припечком. Посередине большой комнаты — чищенный ножом до блеска стол без скатерти. На столе — обыкновенный графин, пустой. На восточной стене, в углу под потолком, — несколько икон со святыми. Над ними свисает лампада.
— Накурил-то, хучь колун вешай в избе! Ты чего, старик?..
Пришла хозяйка — невысокая сухонькая женщина в наглухо завязанном платке, из-под которого выбивалась непокорная седая прядка. Старушка была одета в рваную и прожженную в нескольких местах фуфайку, на ногах — стоптанные кирзовые сапоги.
Мариока учтиво поклонился, коснувшись ладонями своих колен.
— Драсьте-драсьте, добры люди! — поздоровалась хозяйка. И сходу: — Ну, японец, чего умешь делать?
Мариока вопросительно уставился на Будника.
— Землю, спрашивает, копать умеешь ли?
— Пушшай в окошко глянет, скоко соток. — Старушка жалостливо покачала головой. — Не помрет от трудов таких?
— Мне бы помощника, — попросил Мариока.
— Ладно, — согласился Будник, — спрошу у начальства.
— Тридцать соток огородец-то вместе с грядками и теплицами... Сдюжит ли тощий японец? — проворчал Яков Иванович. — Ладнось, я тоже помогать буду.
— И не вздумай! — замахала руками хозяйка. — У тя вон ноги больны, отказывают частенько... — Она повернулась к Мариоке: — Вон, вишь, сыновья наши на патретах... Четверо...
На стене висели фотографии молодых парнишек.
— Старшого забрали в тридцать восьмом, второй в Сталинграде сгиб, третий утонул в Днепре... А последнего — в Праге убили, десятого мая сорок пятого...
Яков Иванович стал свертывать новую самокрутку.
— С северов должна родна племянница приехать, подмогнуть по хозяйству, — продолжала его жена. — Вот вместях и будете на огороде робить. Ох, че ж я стою-та? Ведь соловья баснями не кормют... Ах ты, боженьки...
Будник как бы невзначай глянул на японца:
— Чего, свободу почухал, япона мать?
Яков Иванович приподнялся с места.
— И чего он будет с ней делать-то? Ихнее государство далеко, а Сибирь — вот она, рядом. Ты, сержант, не дави на него. Он хоть и в плену, но тоже человек.
— А чего их жалеть? Враг он, как есть — враг!
— Дык ведь враги, сержант, тоже разные бывают. Ты вот, вохра, из каких краев? — И так посмотрел на Будника, что у того отчего-то начали подкашиваться колени.
— Ну, с Западной Украины я...
— Вот. А тут тебе — Сибирь, тайга рядом, и мало ли что с вашим братом-западенцем может случиться... Не любят и не уважают вас здесь. — И вдруг: — Стрелял в пленных?!
— Н-не довелось, — стуча зубами, ответил сержант Иван Будник.
— И не вздумай! — угрожающе рыкнул Злобин, сведя брови на переносице. — Никогда не стреляй в безоружного и беспомощного, будь то японец иль даже немец...
На скобленом столе появились черный хлеб, молоко, добрый шмат сала с мясными прослойками, лук, квашеная капуста. Посередине красовалась бутылка водки, запечатанная сургучом. Мариока едва не задохнулся от крепкого алкоголя, спешно заедал капустой. Будник же налегал все больше на сало. К молоку Мариока даже не прикоснулся — он ни разу в жизни не пил молоко, — и хозяйка расщедрилась на холодный квас из подполья.
— А можа, ты, вохра, тож лопатой хошь поработать? — с ехидцей спросил Яков Иванович.
— Мне нельзя, я на службе, — с набитым ртом ответил Будник.
— А жрать за моим столом и есть твоя служба? Надось сначала поработать, а опосля брюхо набивать. Знашь, как у нас говорят: с сытой собакой плохая охота. Ладно, японец не понимает... Я вижу, вы в лагере с голодухи не пухнете: гляди, морда-то у тебя какая!
Яков Иванович раскраснелся от выпитой водки.
— Да ты чего, дед? — всплеснула руками хозяйка.
— Не люблю дармоедов! — рявкнул Злобин и стал вылезать из-за стола.
— Ох, смотри, дед, навлечешь на нас беду. Вон, слухи идут — на четвертом заводе чистки опять. От антисоветского элементу, вот!
— К двадцати одному часу приду, — сказал Будник, выковыривая из зубов остатки капустных листьев.
— А зачем? Японец сам дорогу в лагерь не найдет? Здеся все пути ведут только в одну сторону...
Наутро у Мариоки страшно болели руки, спина, в коленях появилась странная дрожь и ноги отказывались идти. Наскоро осмотрев пленных в кабинете, Мариока снова отправился в сопровождении Будника к Злобиным. Но в этот раз Будник сам во двор заходить не стал. Впихнул японца внутрь, предупредив, что прибудет за ним в девять часов вечера.
С возвышенности, где раскинулся большой огород Злобиных, была отчетливо видна Черная сопка. Вскапывая землю, Мариока часто взглядывал на ее конус вдали. Она напоминала ему Фудзияму.
— Куро дэйке... Фудзи-сан, — показывал рукой Мариока Якову Ивановичу. — Куро...7
Он вдруг попросил лист бумаги и карандаш. Быстро по памяти нарисовал Фудзияму. Рядом — Черную сопку. Сложил при этом ладони вместе и склонил голову.
— Эх ты, бедолага! — сказал сочувственно Яков Иванович. — То есть, значит, там бог твой?
— Бох-х, да-да, бох-х-х, — впервые за все время заулыбался Мариока.
— Сыновья мои частенько ходили на Черную сопку. Всё клады в пещерах старались найти. Во-он отсюда по логу напрямки можно выйти к ней, через Кузнецову деревню. По осени пойдет ягода — смородина красная и черная, кислица, голубика, брусника...
— Бр-русника, — повторил твердо Мариока.
— Э, да ты по-русски умеешь? — удивленно спросил Злобин.
— Чуть-чуть.
— Вас там в лагере еще не перекрещивают в свою веру, в советскую?
Мариока не сразу понял, о чем спросил Яков Иванович. При чем тут вера? А потом дошло. К ним в лагерь с некоторых пор стали привозить агитационные листки на японском языке, пронизанные коммунистическим духом. Японцев водили в кинотеатр, показывали им советские патриотические фильмы и фильмы о Ленине. Мариока знал историю России и СССР лишь приблизительно, и то в основном по слухам. В императорской армии учили любить Японию и отдавать жизнь за императора. Он знал о русско-японской войне, взятии Порт-Артура, Цусимском морском сражении, о событиях на озере Хасан и реке Халхин-Гол. О советско-японском конфликте высшие офицеры старались не упоминать. Русские обвиняли в провокациях японцев, японцы — Сталина и генерала Жукова. Поразмыслив, Мариока со временем начал сомневаться в непререкаемой правоте императора и его приближенных.
Яков Иванович японцем был доволен. Посадили картошку, рассаду огурцов и помидоров в теплицах. Яков Иванович самолично высадил табак, листочки которого еще в избе взялись желтизной.
Вскоре по лагерю разнесся слух, что некоторых, благонадежных, военнопленных будут отправлять на сельскохозяйственные работы в ближайшие села и деревни. К этому времени Яков Иванович уже научил Мариоку косить траву.
Военфельдшер впервые помылся в русской бане.
— Отошшал-то, милок! — приговаривал Яков Иванович, хлеща японца березовым веником. — Мало ешь, что ли? Иль не дают много? Счас за стол сядем... А как тебя звать-величать? Скока работаешь у меня, а я и не знаю. Вот я, — Яков Иванович ткнул себя в грудь, — Яков, Яша...
— Кацу, Кацу Мариока...
— М-мариока, — протянул Злобин. — М-мариока... А по-русски это будет... Мишей будешь! Ты — Миша!
— Миша-Миша! Я — Миша! — радостно закивал японец.
Яков Иванович порозовел и подобрел от выпитой водки. Потянуло на разговоры. Хотелось выговориться перед кем-нибудь, пусть даже и не понимали его иногда. И он, солидно кашлянув, начал незамысловатый рассказ:
— Лет триста назад у подножия Черной сопки стояло стойбище камасинских татарей. А опосля, говорят, с северов пришли тунгусы из какого-то роду-племени, очень воинственные. Шаманка у них красивая была. Казаки местные переплывали Енисей, чтоб смотреть ее камлание. А по ихним тунгусским правилам мужик-шаман не имеет права жениться, а баба-шаманка — замуж выходить.
Яков Иванович бросил в рот стопку водки, запихнул соленую черемшу.
— Убил ту шаманку казак из ревности и на ее могиле посадил молодую лиственницу. Дерево это до сих пор на Черной сопке стоит. А после слухи пошли, что с Урала, с демидовских заводов-рудников, бежали работные люди, спасаясь от непосильного труда. Но, как всегда выходит, надоело им горб гнуть за полушку и потихоньку стали они купецкие обозы грабить и убивать старателей, что золотишком промышляли. Атаман ихний был ростом высок и телом крепок, человеку хребет запросто ломал. По Ангаре гуляли, по северо-енисейской тайге, спирт меняли на золотой песок. Надоело это скоро властям, и енисейские казаки начали их вылавливать. И вскоре атаман остался совсем один и спрятал награбленное где-то на сопке или возле сопки — неизвестно. Многие пытали судьбу, пробовали найти то золото, да уходило оно от них. Аж с Петербурга приезжали обследовать нашу сопку — ничего не нашли! Пошарили-пошарили, так и убыли восвояси. В Гражданскую войну на вершине прятались партизаны из окрестных деревень, белые боялись на самый верх подыматься. В наше-то времечко тоже нашлись искатели, попытались сунуться туда в поисках атаманова золотишка. Да прогнал их сам атаман — явился в виде призрака, и вернулись те искатели совсем седыми. Но я-то точно знаю, что золото на Черной сопке есть!
Яков Иванович захрумкал квашеной капустой.
— Ох и брехун же ты, дед! — сказала хозяйка.
— Почему — брехун? — вскинулся Яков Иванович. — Что люди говорят, то и я рассказываю... А может, это и сказки — не знаю.
— Ты еще приплети чего-нибудь.
— А все равно, люди на сопку ходют по ягоды, грибы, ребятишки бегают, — но на самую вершину не поднимаются. Атамана боятся. Шаманкину лиственницу попытались спилить, но ни пиле, ни топору то дерево не поддается — во какое крепкое! А можа, оно заколдованное? И говорят еще, под тем деревом часть атаманского золота зарыта. Много там смертей бывало. Можа, и прозвали сопку Черной, потому что там черные дела творились. Но нам никогда этого не узнать. Предсказывают старые люди, что вскорости рванет Черная сопка огнем и желтым дымом — и погибнет вокруг все, наказание такое будет за грехи человеческие...
— Вулкан? — предположил Миша-японец.
— Да не верь ты ему, брехолову!
— Потухший, но вулкан? Как наша Фудзияма?
Картошка начала давать всходы, когда Якова Ивановича забрали. Обвинили в антисоветской агитации и использовании наемного труда. Но, изучив обстоятельно дело, отпустили за отсутствием состава преступления, тем более — отец трех героев-фронтовиков.
Мариока сразу понял, откуда ветер дует, но решил, что лучше в таких обстоятельствах держать рот на замке.
Человек пятьдесят из лагеря отправили в село Атаманово на сенокос и в дальнейшем — убирать урожай. Поехал туда и друг Мариоки, капрал Сато Юкио. Хоть отъестся да поправится на деревенских харчах. Пообещали и Мариоку отправить туда же строить коровник, но не отправили. Послали опять к Злобиным — пропалывать грядки и окучивать картошку.
Посмурневший Яков Иванович, сгорбившись, сидел на завалинке, щурясь от яркого солнца, и посасывал самокрутку.
— Д-да, в этом годе, боюсь, урожая не видать. Сгорит все... За месяц ни одной дождинки! Слышь-ко, Миша, иди перекури да перекуси. Чего едят в вашей Японии-то?
— Рис... рыбу... бобы...
— Ишь ты! Нету риса, и нету рыбы. Хлеб, молоко, капустка квашеная, из крупы — чуть перловки-шрапнели, пшена маленько... Картошку пока не копали.
Перекусывали молча. Мариока так и не привык к молоку. Его начинало тошнить от одного только вида. Запивал еду холодной водой.
— Такой огородище-то много не польешь, — сокрушался Яков Иванович. — Сгорит картошка!
Жара уже сказывалась на питании военнопленных. В лагере постепенно урезали пайки.
— Вы пробовали когда-нибудь змею? Из змеи получаются хорошие и вкусные кушанья, — сказал Миша-японец. — В голодные годы у нас ели змей.
Хозяйка удивленно уставилась на него.
— Во! Гадюк мы токо и не пробовали! — развел руками Яков Иванович. — Ну, жрать захочешь — и змею сожрешь. Пока не голодуем, но чую, скоро придется идти на Черную сопку гадов земных отлавливать. Любят они на камушках греться!..
Однажды вечером, когда за Мариокой уже должен был прийти конвоир из лагеря, во двор вошла молодая женщина с самодельным деревянным чемоданом и большим армейским вещмешком.
— А вот и Тонька приехала с северов!
Мариока подумал: «с северов» — из северных краев, значит? Молодая женщина показалась ему измученной, то ли дальней дорогой, то ли физическим трудом.
Антонина приехала одна. За два года до этого ее муж скончался от ран, а в сорок пятом она похоронила и сына, который умер от истощения и воспаления легких.
Мариока уже свободно понимал русский разговорный язык. Да и по виду женщины можно было определить: хватила горя с лихвой.
— Ну дак вот, Антонина, ты старухе моей поможешь в огороде, а мы с Мишей-японцем начнем копать яму под уборную. — Яков Иванович показал на старый, покосившийся деревенский туалет и пояснил Мариоке: — Куды до ветру ходют, понял?
Японец сконфуженно заулыбался.
— Да, новость слыхали? Степка Лалетин с Порт-Артура приехамши, изранетый весь. Лучше нашему японцу ему на глаза не попадаться. Пришибет ненароком...
Тонька стала учить Мишу-японца писать и читать по-русски, занимаясь с ним по одному часу в день. Японские военнопленные работали во многих дворах поселка, и жители уже давно привыкли к ним.
На перекурах в работе Яков Иванович продолжал свое повествование о Черной сопке, вокруг которой сложилось много легенд. Да еще если водочки выпьет — не различить было, где вымысел, а где правда.
— В давнее-то времечко, когда держали власть воеводы, приехал в острог опальный монах с самой Москвы. Привез с собой много бумаги, чернил, свечек... Воевода отправил его на правый берег выбирать место для житья. И выбрал тот монах поляну у подножия Черной сопки, вырыл там себе землянку. Казаки местные помогли ему поставить пустынь, обустроить ее и укрепить. Построили маленькую церквушку, куда и инородцы ходили. Только вскоре сожгли ее мятежные тунгусы и монаха того чуть не убили. Спрятал монах свои писаные свитки, а куда — неизвестно. Еще при царе пытались их найти — не нашли. Говорили, что сей монах жил в Смутное время, в правление Ивана Грозного и царя Бориса Годунова. Служил в ополчении у Пожарского с Мининым, был с воеводой Шеиным на защите города Смоленска. За что опалился тогдашний царь на монаха — тоже неведомо...
— Хорошо ты, дядь Яша, русскую историю знаешь! — удивлялась Тонька.
— А я еще во время царя учился хорошо. И книг много прочитал — в библиотеку плавал на другой берег. И был у меня знакомый учитель истории, богословия и русского языка. Во! У меня книги некоторые сохранились с царских времен, да и советские есть... Так вот. Опосля, говорят, того монаха в очередной набег забрали тунгусы и увезли к себе. Все думали, его уж нет в живых. А года через три он сам в острог пришел и сказал, что несколько племен обратил в православную веру. Вот такая история... Прожил тот монах аж до ста десяти лет и попросил его похоронить у подножия Черной сопки.
— Сказки это все, дядь Яш, — сказала Тонька. — Нигде такого не записано.
— Можа, и так. Но станут ли в будущем записывать наши нынешние дела, как они есть? Правду, так сказать, историческую?.. Академики от истории любят приврать иногда. — Яков Иванович с наслаждением вдохнул дым самосада.
— Доведет тебя твоя правда до беды, старик, — с тревогой в голосе произнесла хозяйка.
— Во все времена всякая система, если ей надо, найдет, в чем тебя обвинить. Так что ж теперь...
Енисей парил, и казалось, что при такой жаре река высохнет совсем. Люди и земля ждали дождя.
Японцы и не предполагали, что в Сибири может стоять такой зной. Неожиданно полыхнул офицерский барак, более комфортный, чем те, где жили солдаты. Временно офицеров разместили в солдатских казармах. На другой же день привезли стройматериалы. Пришлось увеличить периметр лагеря — новый барак получался длиннее прежнего. Говорили, что из Маньчжурии везут большую партию японских военнопленных, да вдобавок еще одну — с Южного Сахалина.
Солнце палило невыносимо. У Злобиных на грядках весь укроп пожелтел.
— Надоть еще яму под колодец копать, — сказал Яков Иванович. — Миша, помогешь?
Новиков предупредил Мариоку, что тот ходит к Злобиным последние дни.
— В ентом-то годе, поди, не будет ни грибов, ни ягод, — сокрушалась хозяйка.
Коренастый и низенький Степка Лалетин, что недавно вернулся из-под Порт-Артура, аж побагровел, заметив пленного японца. Тряхнув рыжими волосами, он как бы нечаянно задел Карымова. Тот выронил мешок с овощами и уставился на обидчика:
— Эй, осторожно нэ можешь, да?
От Степки тошнотворно пахнуло свежим самогоном. На недавно стиранной гимнастерке светились орден Красной Звезды и две медали — «За отвагу» и «За победу над Японией».
— Слышь, японец, в морду хошь?!
— Мужик, в бутылку не лезь, пришибу! — осадил Степку Будник.
— Я тебя, вертухайская морда, не спрашиваю, че мне делать, а че — нет. Можа, я с вашим японцем выпить хочу. За победу. Японец! Выпьешь за победу? — Лалетин вытащил из-за голенища поллитровку с мутной жидкостью.
— Нэ мэшай, да? — Карымов снова закинул мешок за спину.
— Ты шел, солдат, своей дорогой, и иди! — начал заводиться Будник.
Лалетин сделал глоток, снова сунул бутылку за голенище одного нечищеного сапога, а из-за голенища второго извлек охотничий нож с длинным и широким лезвием.
— Чичас я вашего японца свежевать буду! — Крепко сжав нож, он сделал стремительный выпад.
Будник успел подставить штык винтовки под удар — нож вспорол рукав его гимнастерки и упал в пыль.
— Ах ты, вертухай лагерный! — заорал Степка, подбирая оружие. — Да я вас чичас вместях с вашим япошкой порешу!
Мариока подпрыгнул, в прыжке выкидывая вперед ногу. У Лалетина в груди что-то хлюпнуло, чавкнуло, губы внезапно обросли розовой пеной. Степка покачнулся, но не упал. В ярости, достав бутылку, разбил ее о камень, оставив в руке горлышко, и попытался дотянуться до лица японца. Перехватив у Будника винтовку, Мариока штыком пропорол Лалетину голень. Степка заорал на всю улицу и кинулся прочь...
Деревянный карцер: два на два метра, полтора в высоту. Мариока злился на себя — не стерпел, не сдержался. Но на следующий день его выпустили: осматривать больных было больше некому. А к вечеру к воротам лагеря приплелся сам пострадавший, он клялся и божился, что японца и пальцем не тронет — просто желает с ним мировую распить. Потом стал яростно матюгаться, посылая все начальство, которое есть на свете, куда подальше. У него отобрали на медицинские нужды литровую бутылку с самогоном.
— С-суки! — орал он. — Хучь глоток бы оставили! Да имел я вашу ВОХРу!
Дело даже рассматривать не стали — обыкновенная пьяная поножовщина, главное, что все живы остались. Но начальство решило, от греха подальше, отправить мятежного японца в качестве фельдшера с группой других военнопленных на далекий север. В эту группу попал и подполковник Такеши Курода, который раньше хвастался геологическими изысканиями. Барон и не думал, что его хвастовство примет такой оборот. Отправили с Мариокой и его друга, капрала Сато Юкио. Тот заранее ужасался тамошнему климату, говорил, что в краю, куда они едут, морозы достигают шестидесяти градусов.
— Кто-то будет лес валить, кто-то — бить шурфы, искать руду с содержанием золота и других металлов, притом редкоземельных, — говорил Будник Мариоке.
— И ты с нами?
— Да куда ж я от вас денусь? Наша конвойная рота убывает вместе с вами.
Их везли на крытых грузовиках, машины часто ломались, и пленные продвигались пешком, пока технику ремонтировали. По Енисею шла осенняя шуга, в это время паром уже не пускали на правый берег. Стали конфисковать лодки у местного населения. Доходило до драки. Милиционеры ходили по берегу, сбивали с лодок цепи с замками и переправляли японцев на другой берег. На носу и корме каждой лодки — по конвойному. И так несколько раз. Местные ворчали: дождались бы зимника, всем легче было бы.
Октябрь в этих местах ужасный месяц. Снег с дождем, резкие порывы северного, пронизывающего до костей ветра. И со всех сторон вековая дремучая тайга. На привалах спали прямо на пожухлой, слегка припорошенной снежком траве; кому-то разрешали нарубить разлапистого ельника на подстилки. Жались друг к другу, чтобы теплее было. А дальше — дни короче и ночи длиннее.
Откуда-то пришли три крытых грузовика и два автобуса. Люди, скрюченные холодом, воспрянули духом, рванулись к автобусам в надежде согреться. Но в них оказалось так же холодно, разве что ветра пронизывающего не было. Конвойную роту разместили в грузовиках, так как она была одета теплее, а пленных посадили в один грузовик и в автобусы. Транспорта на всех не хватало.
Ехали медленно и долго. Время пути казалось вечностью. Мариока задремал в холодном салоне автобуса, в котором пахло переработанным горючим. Разбудили его частые винтовочные выстрелы. Несколько конвойных бросились в тайгу — и вскоре уже тащили с собой замерзшее, обросшее существо в рваной и обожженной солдатской шинели, лишь отдаленно похожее на человека. Их пленник щелкнул зубами — вернее, чавкнул деснами: щелкать было нечем, зубы сожрала цинга, — закрыл лохматую голову руками в ссадинах и струпьях. В его голове Мариока ясно разглядел кроваво-красных вшей и невольно отодвинулся.
— Кто это? — спросил фельдшер по-русски.
— Дезертир, небось. Они по здешней тайге скопом шастают. Не знают, поди, что война давно кончилась...
Лохматый дезертир поднял голову, удивленно и диковато уставился зеленью глаз на японца.
— С ума двинул, сердешна-ай, — посочувствовал кто-то из конвоиров.
Бедняга прошепелявил бескровными губами:
— Товарищи... товарищи, вы скажите, что я сам сдался...
Быстро проехали поселок Брянка. Проезжали ночью и как-то не заметили самого поселка. К вечеру добрались до селения с красивым названием — Ведуга. Пытались найти милиционера, чтобы сдать дезертира, но милиции в Ведуге не было.
Интересные же имена селений у этих русских, удивлялся Мариока. По возможности он старался запоминать географические названия. Фельдшер не увлекался топонимикой, ему просто было интересно в этих северных, чужих краях. Но когда же домой, в Японию? Кто-то из конвойных проворчал, мол, как только отработаете награбленное и наворованное, — сразу отпустят на родину. Мариока удивился — он никого не грабил и ничего не воровал в СССР!
— Не вы одни тама японцы, — сказал шофер автобуса. — Тама ваших земляков хватает. В конце сорок пятого первую партию привезли. Дак те уж, поди, все от голода передохли, от обморожений, от гангрены всякой...
— Не пугай! — прикрикнул Будник. — Они уже почти все по-русски понимают.
Дорога резко пошла в гору, и передний грузовик забуксовал в глубокой, полной грязной жижи колее. Новиков ругался матом так, что было слышно в последнем автобусе. Вся техника замедлила ход, пыхтела натужно длинными выхлопными трубами. Конвойные вместе с военнопленными толкали застрявший грузовик в гору. Новиков еще раз обругал шофера, что тот не обмотал шины цепями. Водитель, совсем молодой пацан, растерянно смотрел вдаль, не обращая на капитана внимания.
— Товарищ капитан! — вдруг очнулся он. — Вроде впереди поселок.
— Моли бога, чтоб мы туда доехали, — буркнул Новиков.
Мариока поражался изменчивым сибирским просторам. То горы, покрытые густой тайгой, то внезапно выступает равнина с речками, речушками, ручьями, мелкими озерцами. Могучие, высокие лиственницы в три-четыре человеческих обхвата, ели с длинными мохнатыми лапами, крепкие кедры, сосны, источающие эфирный дух, реже — осинники с березняком. Здесь и заблудиться недолго. И запахи совершенно другие, не такие, как в городе.
Японец прислушался: откуда-то доносился неясный гул, будто где самолеты летят. Шофер был прав — впереди распластался небольшой поселок.
— Вот тут и сдадим нашего дезертира властям, — решил Новиков. — Я надеюсь, здесь есть хоть какая-нибудь власть?
Колонна грузовиков и автобусов медленно втягивалась на прямую и длинную, наверно единственную, улицу поселка. Но никто не встречал приезжих, даже любопытствующих не было. Будто вымерли все. Таежный пейзаж портили отвалы выработанной породы. На плоских бледно-серых камнях пробивалась редкая растительность. А вдали, как поняли все, гудела драга — этакая золотоизвлекательная фабрика на воде. В конце улицы торцом стоял длинный барак-засыпушка с двойными застекленными рамами и несколькими железными печными трубами.
— То для 58-й построили, еще лет десять назад, — пояснил шофер. — Они уж как бы расконвоированные, убечь отсюда некуды...
Возле барака притулился маленький домик без крыльца, с чердачного окна свисал обтрепанный и выцветший флаг с едва различимыми серпом и молотом. Звезда же совсем выгорела.
Пленным разрешили оправиться, перекусить, подышать свежим воздухом. Остро пахло пихтой, поздними грибами и еще чем-то неизвестным. Мариока потом догадался — пахло рудной пылью с отвалов, у нее был кисловатый привкус. Вскоре на их автобус дали мешок подсохшего хлеба, вареную картошку, лук, соленую черемшу и уж совсем гнилую свеклу. Соли не нашлось, пришлось просить у шофера.
— А как поселок называется? — спросил Новиков у своего водителя.
— Не поселок, а прииск. Новоерудинский.
— А почему указателя нет? И вообще, где тут власть?! — начал злиться капитан.
В полусгнившем домике приискового совета нашли местного участкового, даже двоих — другой был из поселка Калами.
— Примете дезертира? — прямо с порога, не представившись, спросил Новиков.
— А на кой он мне? — расплылся в масленой улыбке каламский участковый. — Тут этих сволочей знаешь скока шлындает? На фронт итить не захотели, по таежным заимкам разбежалися. Вот меня недавнось на этот прииск и вызвали... Не, не приму я вашего изменника Родины, своих надо вылавливать!
Поздно вечером тронулись в путь. Ночью слегка приморозило. Мариока пригрелся возле капрала Сато Юкио, задремал. Капрал тоже спал, откинув голову. Новиков звал японского фельдшера в головную машину, но Мариока отказался, сославшись на то, что вместе ехать теплее. И удивительно: ему все это время ничего не снилось. Спал точно младенец.
Проснулся он от резкого толчка. Сонные пленные чуть не попадали в проход меж сидений. Стекла автобуса задернуло морозными узорами, Мариока приник к окну, дыханием грел стекло. Но сквозь растопленную дырочку ничего не было видно, кроме горной тайги. Перед ними — развилка: одна дорога шла вправо, другая — налево, через мост. А на востоке уже алела заря. Мариока, дохнув парком, поинтересовался временем.
— Вечное у тебя время, — полусонно сказал шофер. — Счас доедем до Михайловского, а там посмотрим. Там аж две бани есть...
Колонна свернула налево, прошла мост, перекинутый через речку Енашимо. Натужно ревели моторы, вхолостую крутились задние колеса грузовиков. Но техника все же взяла крутую гору. Дальше поехали по более-менее хорошей, наезженной дороге.
— Счас повеселее будет, — сказал шофер, протирая глаза грязной, промасленной тряпкой. — Ежли вы чего, господа японцы, увидите — не блажите и не удивляйтесь.
Неожиданно подал голос дезертир:
— Хлебушка-а-а бы-ы-ы...
— А по зубам? — наклонился к нему Будник.— Хотя у тебя и зубов-то нет.
— Ты, продажная душа, с каких краев будешь? — спросил шофер.
— Н-не помню-у-у...
— Врешь, однако, как говорят местные тунгусы. — Шофер усмехнулся. — Однако, врешь! Ну да Бог тебе судья. Дайте ему че-нить, не то задавит нытьем своим.
Мариока поделился с дезертиром черствым, заплесневелым хлебом. Тот понюхал краюху, поднял глаза — и вдруг ничком упал между сидений. Будник кинулся к нему, пощупал пульс.
— Все, отмаялась душа продажная. Видать, сердце не выдержало, — как-то даже с жалостью проговорил сержант.
— Умэр, да? — тупо уставился на мертвого дезертира Карымов.
— Вот и наказал его Бог за грехи, — глубоко вздохнул шофер.
Новиков приказал выкинуть мертвеца в канаву.
— Зверья тут много ходит, сожрут, — сказал он.
«Как собаку», — подумал Мариока.
Поселок Ново-Михайловский трудно было назвать действительно поселком: четыре дома, две бани, хозяйственные постройки, тайга близко примыкает к домам. Еще один мост через вертлявую реку Енашимо.
В этот день сделали большой привал для отдыха. Новиков позвал хозяев, чтобы те истопили бани. Такеши Курода спустился к каменистому бережку Енашимо, взял в ладонь горсть камешков, долго разглядывал, даже понюхал. Может, нефтью пахнут? Нет, вряд ли она здесь есть, а вот газ — может быть. И правда, иногда летом в тайге бывало нечем дышать, метановые испарения от многочисленных болот чувствовались и в поселках.
Для бани выдали по обмылку на каждые пять человек. Сато Юкио мылся внизу, его легкие не переносили острого и резкого пара. Зато Мариока парился с удовольствием. Правда, без березовых и пихтовых веников, но все равно — хорошо!
После Ново-Михайловского путь тоже разветвлялся — одна дорога шла прямиком в Подъемный, другая — мимо местного кладбища, и тоже выводила к Подъемному.
Барон Курода, уперев руки в бока, осматривал отвалы, часто нагибался, брал куски породы, придирчиво и внимательно разглядывал. И, ни к кому не обращаясь, говорил, что местная тайга очень богата полезными ископаемыми: золотом, медью, марганцем, углем, железом, редкоземельными металлами, цезием и торием, должен быть кремний, а возможно, в этих местах есть и уран. И закончил:
— Что ж, можно поработать и здесь, если родины моей больше нет!
Мариока знал, что Такеши Курода родился где-то в пригороде Нагасаки. Невольно фельдшер вспомнил о родственниках, живших в имении близ Токио. Дядя, брат отца, с семьей здорово пострадали при землетрясении 1 сентября 1923 года, в 12-й год правления Тайсе. Мариоке было тогда два года. Токио, Икогама и почти вся провинция Канто лежали в руинах, а вот дворец Акасаки и резиденция принца-регента Хирохито, стоявшие на специальных рамах из сейсмоустойчивой стали, которые могли сжиматься и растягиваться в зависимости от мощности толчков, почти не пострадали... По слухам, разрушения в Нагасаки после американской бомбардировки были гораздо больше.
Сибирская погода неожиданно подарила солнечный и теплый денек. Снег подтаивал, с таежных холмов побежали ручьи. Подул легкий, приятный ветерок. И барон Курода вдруг воскликнул:
— Эти ручейки могут нести с собой золотые крупицы! Они попадают в реку, а потом их течением относит вниз, и ближе к устью реки можно брать пробы на золото!
Подполковник счастливо улыбался, точно ребенок, нашедший игрушку.
— Да, богатая страна Россия! — торжественно произнес он.
После бани японцы снова надевали на себя грязную, обтрепанную одежду. А самые ловкие из конвойных успели постирать свое обмундирование в Енашимо при помощи жидкого мыла.
Из Подъемного пришли еще две машины, крытые брезентом. Из кабины вылез злой, полупьяный, расхристанный военный в потемневших капитанских погонах и с места в карьер заорал:
— Па-а-ачему задержка, мать твою?! Мне людей не хватает, больше половины япошек сдохло! А-а-а! Устроили тут помывку? На месте бы свои яйца промыли и дезинфекцию провели... Почему так долго? Строиться, доходяги!
— Сначала представьтесь, капитан, — с угрозой в голосе процедил Новиков. И добавил тише: — Круто берешь, однако...
— Ма-а-лча-ать! — зарычал тот, брызнув слюной — Я заместитель начальника оперативной части капитан Соловьев. Вы должны были прибыть в Подъемный еще неделю назад. Почему не прибыли? Построить пленных, построить личный состав!
— Мало выпил, что ли? — насмешливо спросил его Новиков.
— Что?!
— Не ори, капитан, а то у меня рука тяжелая, фронтовая. Если что, не обижайся. Тайга ведь большая, непроходимая...
Пыл и хмель у Соловьева сами собой начали постепенно выветриваться. Он понял, что хватил через край.
Мариока прислушивался к перепалке военных и для себя сделал вывод, что отныне начинается другая жизнь, не такая, как в городе. Там-то, похоже, было легче. Здесь же придется не жить, а выживать.
3.
Сидели Миша-японец с Будником до самого вечера. Пришлось старому Буднику сходить еще за одной бутылкой, и взял он ее буквально с боем перед самым закрытием дежурного магазина. Миша не укорял, не осуждал, не обвинял бывшего конвойного. Проклятое было время. Расстреливал ли Будник японцев-военнопленных? Да, расстреливал: ослушаешься приказа — сам попадешь на нары.
...Тогда они прибыли в Подъемный почти на готовенькое. Построенный лагерь, аккуратные полупустые бараки, печки, изготовленные из железных бочек. На территории уже был возведен нулевой цикл нескольких производственных корпусов. Где жили, там и строили, там и умирали. Умерших уносили на гору.
Строительный раствор схватывался на сорокапятиградусном морозе почти мгновенно. Японцы подогревали корыта с ним при помощи березовых дров. Когда раствор мало-мальски оттаивал, его быстро-быстро передавали на высоту с помощью электроподъемника. Часто случались перебои с электричеством, тогда приходилось набирать раствор в носилки или в ведро и бегом бежать наверх, к каменщикам. Первая смена возвращалась, вернее приползала, в бараки полумертвая.
Разнарядку на военнопленных прислала и геологоразведка. К поиску полезных ископаемых привлекли подполковника, барона Такеши Куроду. Он теперь жил в поселке в весьма привилегированных условиях.
Мариока, несмотря на фельдшерское образование, работал на строительстве цехов. Строительной бригадой, куда его приписали, командовал китаец Чжень, неведомо каким путем попавший в лагерь.
— Дафай-дафай! — только и было слышно от китайца.
Два японца разбились насмерть, поскользнувшись на высоте. Их товарищей послали на гору рыть яму для покойников. Пока они долбили мерзлый грунт, конвойный прикорнул на гладком валуне, подремывал, не выпуская из рук автомата. Мариока сказал Чженю, что неплохо бы разжечь костер и отогреть землю — легче будет копать могилу.
Китаец отрицательно закачал головой:
— Нез-зья-а-а!
— Скотина! — выругался по-русски Мариока.
С горы было видно, что весь поселок утопает в морозном мареве. Когда они пошли на гору, лагерный термометр показывал минус сорок четыре по Цельсию. По всем правилам день должен был быть актированным8. Но не для японских военнопленных.
Промерзшая земля никак не поддавалась. Часто попадались корни растущих рядом деревьев. Часа через два выдолбили в глубину всего сантиметров восемьдесят. Китаец Чжень сказал, что хватит. Трупы туго замотали в рваные и грязные простыни и присыпали мерзлым грунтом. Получилось не больше метра. А неподалеку уже стояла и клацала клыками голодная волчья стая.
В тот же день после полудня Мариока почувствовал себя плохо. Как фельдшер, он первым делом подумал, что съел за обедом что-то не то. Но нет, он сам снимал пищевую пробу на кухне. Тем не менее медицинский градусник показал тридцать девять и три. К вечеру японцу совсем стало худо, и он ужаснулся: двусторонняя пневмония! Едва успел понять — провалился куда-то в пустоту...
Он не знал, сколько времени провел без сознания. Пришел в себя на койке, на чистом белье. Повернул голову влево — белая стена, вправо — больничная тумбочка, а на ней банка с какой-то желтой жидкостью, порошок в пакетиках, чашка с супом, по виду суточной давности. Японец понял, что находится в поселковой больнице. Но кто его сюда определил? Без вмешательства капитана Новикова здесь явно не обошлось.
— Очухался, болезный? — спросили, как ему показалось, очень громко. — Ну-ко, подставляй свою тошшу задницу...
Мариока ощутил, что болят обе ягодицы, и густо покраснел.
— Проспал все царствие небесное, японец... А ведь март месяц на дворе! Весна в Сибирь идет, тепло скоро будет.
— Весна... тепло... — промолвил Мариока и заулыбался.
Другие обитатели лечебницы присматривались к японцу, но старались по пустякам не беспокоить. Один из больных предложил ему папиросы «Казбек». Мариока склонился в полупоклоне и осторожно взял одну.
— Ариготэ, ариготэ... Спасибо...
Большинство сворачивали самокрутки из моршанской махорки и густо дымили ими в ванной комнате.
В ту пору в магазинах постепенно стали появляться продукты, в первую очередь мука и крупы. Иногда «выбрасывали» американскую тушенку, мясо от подсобных хозяйств, где держали и откармливали свиней. Эти хозяйства находились под строгим присмотром сторожей, вооруженных наганами и пистолетами ТТ. Поговаривали, что вот-вот отменят карточную систему.
В середине апреля бабахнуло, как на фронте залпом из гаубиц. Больные поспрыгивали с коек.
— Речка пошла! Ледоход начался!
Половодьем чуть не снесло новый деревянный мост через протоку, разделяющую остров и сам поселок Подъемный. Этот мост на мощных лиственничных опорах японцы построили еще осенью. На обрыве над протокой, наклонившись к воде, стояли две высокие ели и мощная, в три обхвата, сухая лиственница. Издали казалось, что они вот-вот рухнут, перегородят протоку, сделают ее непроходимой для лодок-илимок, что возили оборудование и продукты из краевого центра на базу, которая располагалась на острове. Паводком здесь уже не раз топило продуктовые склады. Тогда собирали здоровых мужиков, сколачивали из досок полки и затаскивали продукты метра на два наверх, а то и под самый потолок, уберегая от воды. Подтапливало и сам поселок разлившимися ручьями, Тарасовским и Кузнецовским, а вдобавок и водами многочисленных родников.
Мариока постепенно привык к больничной обстановке. Пришла другая медсестра делать ему очередной укол. Присматриваясь к ней, Мариока вдруг подумал: где он ее видел? Та тоже внимательно разглядывала исхудавшего японца.
— Миша, ты? — спросила она, нервно теребя пуговицу халата.
— То-ня? — по слогам вымолвил Мариока.
— Это ты был у Якова Ивановича?
— Я...
Да, это была она, Тонька Худоногова, родственница Якова Ивановича Злобина, которому Мариока когда-то помогал в огороде и по хозяйственной части.
— Мир тесный, — произнес японец, имея в виду русскую поговорку.
Еще в конце апреля по периметру лагеря стала прорастать черемша — дикий сибирский лук. Для пленных и обыкновенная-то трава была богатством — любая! — ели, хоть и морщились. К черемше было не так просто подобраться — часовой с вышки сразу срежет очередью.
К маю на территории лагеря достроили несколько производственных корпусов: ремонтно-механический цех, куда вскоре стали завозить станки, кузнечный цех, модельный, строительный. Неподалеку расположилась котельная. Японское кладбище на горе разрасталось; впрочем, там хоронили как военнопленных, так и уголовников. Не слышно было о судьбе барона, подполковника Такеши Куроды. Вместе с партией геологов он отправился на изыскательские работы в район речки Уволги, и появлялись они на Суворовском, Владимировском, Викторовском приисках, где пополняли запасы еды. Потом партия как в воду канула.
Ближе к лету пришел этап по пятьдесят восьмой статье. Здесь были и настоящие изменники Родины, служившие у немцев: русские, украинцы, эстонцы, литовцы, крымские татары, ингуши и чеченцы из специальных мусульманских батальонов. Политических местные ничуть не боялись, потому как сам поселок был образован из ссыльных в царские времена.
— Ты, японец, по-русски читаешь? — спросили Мариоку мужики в курилке.
— Понимай буквы, — с трудом выговорил тот.
— На! — Ему протянули газету.
Мариока развернул ее и попытался читать снизу вверх. Мужики рассмеялись.
Вскоре его вызвали в процедурную на укол.
— Болит, болит, — жаловался он на боли в ягодицах.
— При воспалении легких положены сорок уколов пенициллина, — ворковала Тонька, втыкая в его сморщенную задницу иглу. — Надо лечиться, надо. Завтра последние будут...
— Тоньк, а Тоньк! А возьми ты его замуж, а? — гоготали вокруг.
— Что, выздоровели все? — сердито прищурилась Тонька. И вдруг резко сказала: — А чего — и возьму! Потому как с вас-то толку нету, а японцы народ аккуратный и работящий.
— Да-а, этого у них не отнимешь... А он-то согласен? Ты согласен, японец?
Лицо Мариоки пошло багровыми пятнами.
— И что я нажил? — плаксиво спросил Будник. — Ну, был я вертухаем. Пятерых человек вашего брата расстрелял, но по приказу ведь. Твоего друга, капрала, где-то тут похоронили, туберкулез у него был...
— А подлечить нельзя было?
— Пришел приказ на отправку домой, перед самым отбытием помер...
— А вы тут ни при чем, да? — с ехидцей спросил Миша-японец. — Вон, видишь, волчья стая? Знаешь, почему голодные волки стали так часто выходить из тайги к людям? Потому что человек — тот же хищник! В большинстве из нас человеческое с возрастом исчезает, уходит, характер меняется в худшую сторону. Только и думает такой человек, как бы повкуснее пожрать и хапнуть побольше, ни черта при этом не делая. Скоро совсем в зверей превратимся.
— А все к этому и идет, — пьяно пробубнил Будник. — Счас даже водку купить спокойно невозможно. Проклятый Меченый!..9
Будник умер через год.
Миша-японец чувствовал себя все хуже и хуже. Все чаще отказывали ноги, судороги скручивали тело — так о себе напоминали война и лагерная жизнь. Миша уже давно перестал возить в бочке воду в местную больницу. Детей они с Тонькой не нажили, хотя Тонька была и не против.
В 1992 году со сберкнижки куда-то вдруг ушли все сбережения. Это здорово подкосило Мишу-японца. Похудела и Антонина. Зачем-то ввели новые деньги — и при этом стали частенько задерживать пенсию. Только и оставалось, что жить хозяйством, пока здоровье позволяет.
В апреле 1993-го в избе у Миши-японца снова расцвела сакура. Он вышел во двор, набрал свежей весенней земли, добавил в кадку. Вечером долго смотрел на цветущее деревце, вспоминал что-то. И вдруг стал медленно сползать на пол. Вошедшая к нему Антонина перекрестилась, выбежала наружу, страшно закричала, завыла. Миша-японец скрючился на полу, став как-то меньше ростом, и словно закостенел...
Участковый врач уже ничего не мог сделать.
1 Из историко-художественного цикла «Русский исход». — Примеч. авт.
2 Подхоз — подсобное хозяйство при промышленном предприятии. — Здесь и далее примеч. ред.
3 Илимка — большая лодка для перевозки грузов в периоды навигации.
4 Аматэрасу — японская богиня солнца, божество синтоистского пантеона.
5 Спасибо, спасибо! Вы очень добры... (яп.)
6 «Отряд 731» — специальный отряд японских вооруженных сил, создавший исследовательский центр на территории Маньчжурии, где проводились опыты на людях с целью выявить пределы выживаемости человека в экстремальных условиях и разработки биологического оружия. Подопытных (военнопленных, похищенных местных жителей) морили голодом, замораживали живьем, опускали в кипяток, заражали смертельными болезнями и т. п.
7 Черная гора... Фудзияма... Черная... (яп.)
8 Актированный день — день, когда из-за погодных условий запрещено проводить производственные работы вне помещений.
9 Речь о первом президенте СССР М. Горбачеве и изданном при нем указе о борьбе с пьянством.