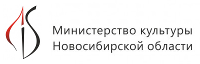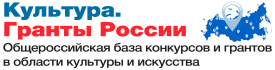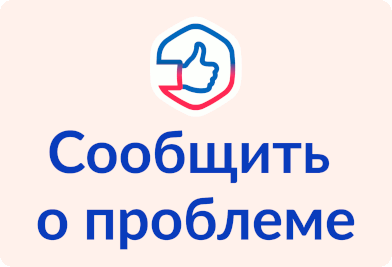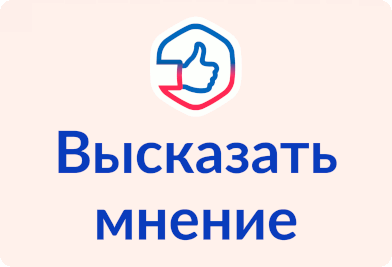Вы здесь
Дурной глаз
Ковалев Таню бросил. Комиссовался и вернулся с другой. Прочитав о его тяжелом ранении, но еще не зная, что он женился, Таня готова была все простить: запои, обещания больше никогда не ходить на войну, измены, нежелание создать семью, придирки в быту. Она подстриглась и покрасила волосы, сделала маникюр, надела не по сезону короткое платье и замшевые сапоги на шпильках, испекла мясной пирог и пополнила бар.
Остановил ее звонок матери Ковалева, Веры Александровны:
— Танюша, не приходи к нам сегодня. Нехорошо получится. Юра-то приедет не один... Молодая жена у него теперь. Прости меня.
Таня выла на кухне, испугав двух котов и папу, и без того притихшего после смерти младшего сына. Хорошо шла водочка, а пирог встал поперек горла. Оно и понятно — подгорел снизу, а внутри сырой. Выбросила бы, да нельзя: сейчас многие голодают. В Мариуполе люди не мяса и консервов просят, а хлеба и сигарет.
Встретились они на Пасху, в церкви. Ковалев — высокий, смуглый, поджарый, плечистый — истово крестился и о чем-то молил. И соперница — вчерашняя школьница с широко расставленными глазами, до пошлости миниатюрная, со сдобной грудью и топорно сделанными губами. Ресницы еще эти... опахала.
— Пигалица, — сказала о ней Вера Александровна. Точнее и не скажешь.
В церковь их родную ночью прилетело, поэтому, не сговариваясь, поехали в чужую, тоже в центре, только во дворах. Таня до этого здесь ни разу не была.
Прошла служба, а радости на душе не было. Мучила мысль, вдруг Ковалев думает, что она специально сюда пришла, чтобы на его счастье посмотреть. Кивнул ей в толпе так многозначительно.
На пороге храма к Тане пристала женщина. Не очень старая, но такая неухоженная — с «гнездом» на голове, вульгарным макияжем, одетая в истертый меховой жилет, черную гипюровую блузку и почти праздничную, если бы не зацепки и прилипшая собачья шерсть, юбку. Таня видела ее много раз, то на пересечении улиц Гурова и Университетской, то на Горсаде, то в Парке кованых фигур, то на колхозном рынке. Женщина всегда несла в руках объемные пакеты, их еще называют помоечными, а однажды предложила Тане чахлые цветы. Такие обычно лежат на могилках, вянут по усопшим.
В этот раз женщина конкретно «присела» Тане на уши. Перебивая саму себя, рассказывала, как ее обманули родные: лишили квартиры в доме с башенками, подстроили так, что она теперь состоит на учете у психиатра и должна приезжать на консультации. Последнему Таня верила — собеседница и правда была с приветом. «С поехавшей кукухой», как едко подметил бы Ковалев.
— И вот я вынуждена ездить в дурдом, а ведь туда прилетает. Я боюсь, понимаете? Боюсь!
— Понимаю.
— В полицию писала столько заявлений, мэру нашему, главе... Никто не верит. Никто не помогает. Я даже на телевидение звонила, а они только посмеялись, неучи картавые. А лысый их досмеялся, теперь червей кормит.
Это было мерзко: известный ведущий умер от тяжелой болезни. Война допекла.
— Простите, мне пора. Удачи вам!
— Спасибо, девонька. О своем не тоскуй и не плачь. Хочешь вернуть — смерти ему пожелай. Черти — они только и ждут твоего приказа. Им без хозяина тяжело. Маются они и плачут, как котята. Помнишь, как рыжего из пипетки выкармливала? Ты не бойся, все равно попадешь в ад...
Таня не стала дослушивать — ругая себя за бесхребетность, злая побежала на остановку.
Маршрутка подъехала быстро. К счастью, сегодня пригласила в гости замужняя, но бездетная подруга Лена, которая никогда не лезет с расспросами, но, если надо, выслушает. Всю дорогу мысли были о том, что однажды Таня уже пожелала любимому человеку. Даже не смерти, а просто, затаив обиду, нехорошо о нем подумала: «Женись-женись, умрешь со своей колхозницей от тоски». А бывший затосковал раньше, напился на мальчишнике, сел за руль, слетел с моста...
О Ковалеве Таня заговорила после третьей рюмки.
— Понимаешь, он это сделал мне назло! Я же ему сама сказала: «Найди себе карманную, послушную жену. Воспитаешь. Будет тебе в рот смотреть».
— Таня, да загулял он просто под Херсоном, а девочка ушлая оказалась. Не захотела современных отношений, женила на себе... Ты только не принимай близко к сердцу: она беременная.
Внутри у Тани оборвалось. В безвременье «Минска»1 она ходила по разным врачам. Те руками разводили, заверяли — проблема не в ней, она хоть сейчас может родить, настойчиво советовали ей обследовать своего мужчину. А Ковалев не любил анализов, морщился от таблеток, банально боялся уколов. Они и разъехались в первый раз, потому что он не пошел с ней в клинику. Потом и вовсе заявил, что не хочет никаких детей. Что ребенок обяжет его быть рядом с домом, превратит в подобие мужика, что жизнь пройдет, а он и не заметит. Таня со своей стороны делала все возможное, а потом, когда отболело, — смирилась.
Бабушка часто говорила Тане, что у нее дурной глаз, и просила «не каркать». В детстве запрещала заходить на кухню, когда там отдыхало тесто или стерилизовались банки. Как-то маленькая Таня восхитилась модной прической мамы, а потом принесла из садика вшей. Пшеничные мамины локоны пришлось обрезать. В другой раз посмотрела на папин красный мотоциклетный шлем и спросила, крепко ли держится ремешок, — папа попал в аварию, открытая черепно-мозговая травма. А уж как прятали от разноцветных Таниных глаз новорожденного братца! Но она все равно исхитрилась, скорчила рожицу этому синепупому непропеченному червяку, занявшему ее манеж. Братец для начала отказался от груди, а впоследствии отметился на каждом этаже областной больницы.
Таня повзрослела, приросла к родным, боялась о них думать в прошедшем времени, а если что случалось с другими, не обращала внимания. Война быстро заставила вспомнить проклятья, город почернел и обезводился. В квартиру детства прилетало два раза. Таня всегда была начеку. Сама стала чекою: скажи лишнее, не поверь ее беде — и прогремит взрыв.
Возвращалась от Лены на такси, одаренная домашними куличами, расслабленная, а оттого уязвимая. Поддалась на провокацию таксиста, проболталась, что нет у нее никого — ни мужа, ни детей, а только тихий папа да шебутные коты. Один — Шашлык, второй — Кебаб.
— Это потому, что ты злая. Мужик тебе тоже нужен злой. Такой, которому бы ты патроны подавала.
Дома Таня решила, что водкой и коньяком горю не поможешь, а вот слез ей не жалко. Повезло, что был день воды, и, значит, ее рыданий не услышит папа. Который почти ничего не говорит, но смотрит так, что саму себя усыпить хочется. Натаскавшись ведер и баклажек, помывшись из тазика, загрузив стиральную машинку, Таня зашла на страницу жены Ковалева. Насмотрелась на ее пока еще плоский живот до тошноты.
На Первомай Ковалев явился сам. На гражданке он носил берцы, неброские брюки с множеством карманов и тактические футболки — песочные, серые или цвета хаки. Набор в рюкзаке с плюшевым Чебурашкой в камуфле и нашивкой «Родился орком — защищай Мордор!» был стандартный: Nemiroff, мадера, «Вечерний Донецк». В лучшие годы четвертыми шли цветы. Да и сам рюкзак тогда не был таким кричащим — георгиевская ленточка, шеврон с группой крови и больше ничего. Глядя на помятое, небритое лицо Ковалева и его несвежую одежду, Таня поняла, что он уже минимум неделю бухает. От предложенных мяса с картошкой и корейского салата — отказался:
— Не лезет. Как ее в больницу положили, ни есть, ни пить не могу — сразу блюю.
— Как же ты водку пьешь?
— А от водки мне хорошо. Очень хорошо! Давай, Танюша, выпьем. Тошно мне.
А потом он расплакался. Тыкая в телефон, показывал, что они уже заранее, пока он дома, оформили детскую, купили много вещей, игрушек: самолетиков, машинок, танков. Камуфляжный конверт заказали у портнихи.
— Пацан у меня будет. Пацан!
Таня представляла их встречу всякой. Но чтобы заросший и плохо пахнущий Ковалев говорил о страхах молодого отца — это уже слишком.
— Юра, ты зачем пришел? Я, по-твоему, кто — практикующий психолог или акушер-гинеколог? Я что должна сказать тебе? «Дорогие Юра и Лана, я желаю вам счастья! Пусть ваш малыш родится здоровым и счастливым!» Что я, черт возьми, должна сказать? А?!
— Да ничего не говори. Мне больно, но тебе еще больнее. Не простила меня, а за стол посадила. Думаешь, не могу тебя забыть? Секса на стороне захотел? Не любил я тебя никогда, Таня. Потому и детей не хотел. Спасибо, что не прогнала. Бывай. И не смотри так, дырку просверлишь. Ты что такая худая? Болеешь? Не болей, Таня.
Хорошее желать приятно, но это если от чистого сердца, а плохое всегда спрятано внутри. Таня больше не прятала от себя своих глаз. Достала старую, довоенную фотографию Ковалева, где он в кимоно, на татами. Поставила стакан с пшеном и свечку, налила в рюмку водки, положила сверху черный хлеб. Каждый день молила об одном. О пигалице не думала. Даже если все-таки родит, с младенцем на войне тяжело. Да и не каждый мужчина примет чужого ребенка.
Женщину с большими пакетами Таня встретила на Троицу. Та приставала к прохожим на площади, предлагала им кошачью мяту. Не иначе как с кладбища. Там она рясно растет.
— Девонька, купи мяту! Пятьдесят рублей всего. Смотри, какая свежая! Сегодня ее нарвала. Заваришь чай — и тоска отступит, и печаль пройдет. Обо всем забудешь.
Таня отрицательно покачала головой, хотела уже идти к Главпочтамту, но тут неслабо бахнуло. Она невольно остановилась, потом спустилась в переход, раздумывая, а так ли ей нужно забирать посылку.
«Вроде утихло. Пойду».
А женщина с большими пакетами не унывала, нашла покупателя. Расплачиваясь, парень в камуфляже — видно, из новоприбывших — сделал комплимент ее потертому, но добротному рюкзаку со смешным Чебурашкой и нашивкой «Родился орком — защищай Мордор!»:
— Хороший у вас рюкзак. С таким только на войну.
Мешочница рассмеялась:
— Да я и так дома, мальчик мой!
Таня хотела закричать, но было слишком поздно.
1 Здесь: в период действия Минских соглашений.