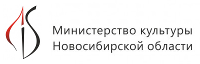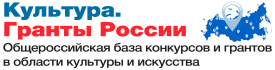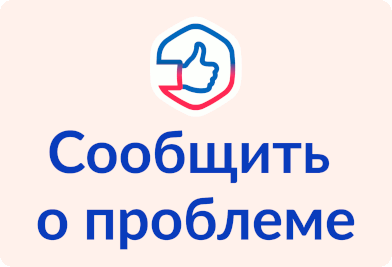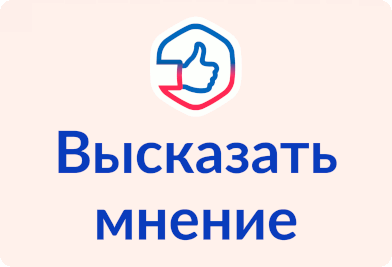Вы здесь
Евсеев и Семенов
Памяти деда-красноармейца Ильи Герасимовича
На покрытой росой серебристой траве по склонам оврага тянулись две темно-зеленые дорожки: старший сержант Анисим Николаевич Евсеев бежал напролом, глухо стуча подошвами сапог, а босоногий рядовой Филипп Семенов петлял по-заячьи, зигзагами, чтобы максимально сбить прицел стреляющего. Они ничего не видели перед собой — овраг был наполнен густым туманом, как крынка молоком. Оба надеялись увернуться от выстрелов конвоиров: понимали, что, если повезет, пули уйдут в молоко, а выпустив всю обойму, преследовать те побоятся — побегут за подмогой. Надо постараться просто убежать как можно дальше.
Часть первая. Побег
Командир назвал это «отправиться в разведку», но на самом деле Евсеева с Семеновым отправили на поиски хоть какой-то снеди, а еще лучше, если б они привели корову или лошадь. Немного провианта хранилось в запасном партизанском лагере, который в этих местах почему-то называли буданом, но пути туда оказались отрезаны. Все окрестные деревни были заняты карателями, они разместили в избах отряды и выставили посты, — пробраться туда за продуктами не было никакой возможности. Евсеев с Семеновым бродили по лесам и болотам от деревни к деревне, но не то что заходить в них, даже на открытую местность высовываться было опасно: понавезли откуда-то мадьяров — вместе с немцами они готовились, похоже, дать решающий бой партизанам.
За трое суток Евсеев и Семенов не только ничего не смогли найти, но и сами страшно оголодали. Время главным образом проводили в буреломах на болотах, ухораниваясь от патрулей, да и от местных тоже: тут смотря на кого нарвешься. Некоторые из своих относились к партизанам почти так же, как к оккупантам: злые были, что те и другие выгребают последнее. Только на третий день «разведчикам» удалось поймать в петлю зайца. Наткнувшись на едва заметную звериную тропу, за пару часов Евсеев выстрогал ловушку из палок, как учил его еще в детстве отец, а потом, разворошив землю, установил пасть1. По правде-то, он ни на что особо не надеялся, потому что лес был ему совершенно незнакомый: ни троп, ни токовищ он тут не знал, да и для привады было только то, что он выскреб из кармана, — было даже не понять, хлебные это крошки или просто мусор. Авось, может, какая лесная мелочь и попадется вроде перепела, ну а уж если векша — это чисто сказка. То, что попался глупый заяц, вообще было необыкновенной удачей.
Он был еще живым, теплым, когда Евсеев достал его. Прежде чем покончить, Евсеев перекрестил его и перекрестился сам. Поймав осуждающе-насмешливый взгляд Семенова, пояснил:
— У меня отец всегда кстил. Если птицу подбивал, говорил, что она в небесах летает, ее можно так. А эти, которые по земле бегают, — кто их знает, вдруг тоже душу имеют? Глупую, да все ж таки душу. А и на дерево большое, перед тем как пилить, положит, бывало, свою ладонь, а она у него морщинистая, сама как кора. Мол, надо прощения попросить. Мысленно.
— И что, деревяга слышит? — хмыкнул Семенов.
— Слышит не слышит, этого мы не знаем, а сказать надо.
Евсеев несколько раз полоснул ножом шкурку зайца и стянул ее, как мокрую тельняшку: на голой тушке остались только ворсистые носочки да пушистый комок на месте хвоста. На землю не упало ни капли крови. Кинул тушку Семенову:
— Дальше давай ты. Сможешь требуху-то вытащить?
Семенов кивнул.
С вечера и всю ночь моросил дождь, а утром похолодало, округу затопил плотный туман. Насквозь промокнув, они грели ноги у костра, но остылые клочья влаги в воздухе забирались за шиворот, холодили спину. Евсеев свои полусапоги только расшнуровал — сказались возраст и природная осторожность. А Семенов обувь скинул, и его сохнущие на ветках обмотки, точно змеи, двумя кругами обвили кострище. Он то и дело ковырял рогулькой угли, тыкал в мясо, проверяя готовность — зайчатина доходила на хилых углях медленно. Евсеев сидел на корточках и сбивал огонь, чтобы дым не поднимался и не выдавал их, а смешивался с туманом. Туман становился гуще — видно, с севера все еще наползал холодный фронт. «Октябрь, однако, скоро и снег выпадет», — подумал Евсеев и прислушался. Было тихо. Но тишина в тумане обманчива — влажная белесая пелена над землей глушит шорохи, в пяти шагах ничего не услышишь, так что просто надо быть осторожнее. По уму-то не стоило бы костер разжигать — не дым, так запах может выдать. Но не есть же мясо сырым! Шкурка косого лежала рядом, и Евсеев, поглядывая на нее, прикидывал, надолго ли ее хватит, если приспособить к обуви: вот уже сутки, как у него на полусапоге отвалилась подошва, пришлось примотать ее ивовыми прутьями.
— А что, Анисим Николаевич, вы в Бога веруете или как? — спросил Семенов, не сводя глаз с тушки. — Смотрю, креститесь. Это как-то не по-нашему.
— Вашему-нашему... — после паузы медленно ответил Евсеев, пропустив вопрос о Боге. — Не поймешь ныне, кто наш-ваш. Да и раньше-то... Вон когда кулачить нас пришли, кто донес? Свои же.
— А кто именно, знаете? — Семенов поднял голову, отвлекшись от процесса жарки.
— Кто-кто?.. Какая разница. Нас ведь дважды кулачили. Сначала в тридцатом по первому разряду родителей арестовали...
— По первому разряду — это как?
— Ну вроде как контрреволюционеры.
— Ого, а я не знал!
— Да чего тут знать? Кто-то свистнул, что у нас в голбце2 будто бы оружие хранится. Не было ничего, конечно, но родителей увезли... Рассказывали потом, что отца предупредили только за час. Надо было собираться и бежать, точнее даже не собираться, а просто бежать — в лес, дальше-дальше от дома, от тех, кто знал его в лицо. Но мать стала зачем-то собирать вещи — у нее были книги божественные, иконы, мелочь какая-то. И вот пока она все это завертывала да складывала, а потом еще молиться стала, они и пришли. Мать и отца на крыльце взяли, когда они выходили. А тесть уже и лошадь запряг, за три дома телега стояла во дворе. Какие-то самые нужные вещи он под солому запихал, а мы с сестрой под попоной лежали, ждали родителей... В общем, кобылу распрягать пришлось, так никуда мы и не уехали. После мы с сестрой при дядьке три года прожили, пока его самого вместе с нами не забрали. В тот день и ваш дом тоже «обобществили», так они этот грабеж называли, хех. И поехали мы в Сибирь все вместе...
Закончив свой рассказ и насупившись — о себе он не привык говорить долго, — Евсеев стал тушить огонь и разгребать веткой угли. В голову его прокралась мысль о том, что прямо здесь он может немного вздремнуть, и сладостным предощущением разлилась по всему телу. Но он заставил себя встряхнуться — величайшее счастье сна было не ко времени — и мысленно повторил затверженное: «После войны отосплюсь». Спать нельзя, так хоть бы покурить...
Евсеев поднялся.
— Вы куда? — вздрогнул Семенов.
— Мяты поищу, а то смерть как курить хочется.
Побродив по кустам, Евсеев нашел-таки мяты и, довольный, вернулся к костру.
— Нашли? — В голосе Семенова слышалось недоверие.
Евсеев показал ему мяту и, сев у костра, разложил ее вместе с листами малины у костра подсушить. Потом стал неспешно лепить самокрутку. В предвкушении затяжки настроение у него поднялось, захотелось сказать напарнику что-то хорошее. Но так просто хвалить или ободрять он не умел, а потому принял интонацию учительскую, покровительственную.
— Стараться надо, — сказал Евсеев со значением и посмотрел на Семенова, тощего, малорослого, с нелепо оттопыренными ушами. — Мухоловка вон пичужка с кулачок и невзрачная, от воробья не отличишь, а на лету мошек ловит — так не каждая птица умеет. Еще и сверх того, что Бог дал, старается. Не чирикает абы как, а коленцами силится петь — уж, конечно, не соловей, но по возможности. Так что бери пример.
— Это как понять?
— А так, что, кроме главного дела, вот, например, сейчас это военно-партизанская служба, надо и другой талант в себе развивать... — Евсеев попытался вспомнить какую-то историю из священных книг, которую ему рассказывала в юности мать, но точно не смог ничего восстановить в памяти: вертелось на уме что-то про зарытый в землю талант, но ускользало, в чем там был смысл. — Война, Семенов, — это зло, а зло долго продолжаться не может. Все равно будет перерыв на добро. Ну и вот, когда мир наступит, чем ты займешься? Например, есть у тебя способность стороны света определять. Значит, после войны ты можешь на топографа выучиться, а по старанию будешь еще и картографом. А если не станешь карты рисовать, то и из топографов тебя попрут.
— За что же сразу «попрут»?
— Потому что есть такое правило: кто имеет какую способность, тот ее еще больше разуметь будет, а кто отказывается ее использовать для народного блага, тот и эту способность свою потеряет, полным дураком станет... — В памяти, наконец, всплыла фраза из божественной книги, которую читала ему мать, и Евсеев закончил: — У кого есть, тому еще прибавится, а у кого нет, у того и остатки отнимутся. Так-то вот!
— Несправедливо как-то, товарищ сержант, не по-советски! — возмутился Семенов.
— Нет никакой справедливости, запомни. Мы еще только боремся за нее, и при нашей жизни мы ее, скорей всего, не увидим.
Молодой Семенов любил поспорить, возражал даже старшим по званию при любой возможности, но ему многое прощали за один необыкновенный талант — умение сориентироваться на местности при любых обстоятельствах. В партизанском отряде его частенько брали в дальние рейды именно из-за этого: компас у него был словно встроен в голову — он мог безошибочно определить стороны света в любую погоду, указать направление, куда надо идти, и сколько уже пройдено.
Евсеев закончил возиться с самокруткой и сладко затянулся. Дым от листочков был горьковатый, зато притуплял чувство голода. Он уже решил, что зайца отдаст Семенову — молодой организм от голода страдает сильнее, — а сам обсосет только одну лапу. Переднюю. А потом снова погрызет запеченные корешки рогоза — в этих местах его называли лепехой, — хотя от них уже тошнило.
Евсеев и Семенов род свой вели из одного села на Ваге, и хоть разница в летах у них была большой, там, на родине, они знались, а в последующие годы, в ссылке, так и вовсе срослись дружбой. В один день их кулачили, в одном обозе везли до Двины, потом на одной барже до Котласа, а оттуда в одном эшелоне — в Сибирь. И когда выгрузили, Семеновы попали в лесной Трудпоселок на Чулыме, а Евсеевых определили в деревню Андреевку в двадцати километрах, что по сибирским меркам рядом. Дядька Евсеева долго не протянул, помер, остались они вдвоем с сестрой, можно сказать, без присмотра. А с Семеновым они по старой памяти ходили вместе кедровые шишки сшибать и рыбу удить. Вместе их и мобилизовали. В части Евсеев как бы опекал молодого, но не так, чтобы постоянно стоять над душой или помыкать, а так, что все сослуживцы в роте, а потом и в партизанском отряде знали, что в случае чего Семенов не сам по себе — за ним стоит Евсеев, мужик серьезный. Евсеев, несмотря на то, что ему шел лишь четвертый десяток, выглядел лет на десять старше своего возраста и был мужиком широкоплечим, а когда надо — тяжелым на руку; хотя и яристым, но понимающим шутку. Словом, именно таким солдатом, какой на войне вызывает уважение и даже некоторую опасливость.
— Не помогли, выходит, вашей матери иконы да молитвы, — наконец нарушил молчание Семенов. — Я всегда удивлялся: люди достаточные, неглупые, а картинкам поклоняются. Видно, Богу-то картинки без интереса.
Он говорил вроде бы про мать, но понятно было, что обращался к Евсееву, о котором в отряде закрепилось мнение, что он «богомол», хотя на самом деле по-настоящему молился Евсеев в последний раз давным-давно, еще когда мать была жива.
— Да, мама у меня сильно верующей была, умела молиться, — подтвердил Евсеев скорее себе, чем своему молодому напарнику.
— Значит, мать у вас церковницей была? — снова стал подковыривать Семенов, по-прежнему глядя на жарящуюся тушку. — Отсталая, значит.
— Она все больше дома молилась. Ты ведь не помнишь, мелкий был, — церковь-то у нас снесли... — Евсеев осекся и глянул на Семенова: — Да что я тебе говорю!.. Ведь дурак ты, Филя. Да еще лопоухий. Но что с тебя взять, молодой еще.
— Я же просил вас не звать меня Филей!
— А как прикажешь тебя величать — Филиппом Васильевичем, что ли?
— Просто Филиппом.
— До Филиппа ты еще не дорос, так только дедов зовут. Тебя в школе как кликали, помнишь?
— Зайцем...
— Наверно, за большие уши?
— Опять вы, товарищ сержант...
— Старший сержант, — поправил Евсеев.
— ...старший сержант, шутите. Уши у меня нормальные. Просто я в детстве бегал быстро!
Евсеев приложил палец к губам:
— Ты чего галдишь?! Тут тебе не в деревне на гулянке горло драть. Так мы с тобой демаскируемся: костер, туды-сюды, тары-бары развели...
— Да у меня мать такая же, — помолчав, продолжил Семенов уже вполголоса. — Тоже все молилась, только пряталась в укромное местечко — по секрету как бы. И пока от Котласа ехали, тоже все молилась, да все равно у нее в вагоне выкидыш случился. Застудила живот-то. Не помог Бог. Несподручно Богу, видать, с нашими-то делами вошкаться... — Семенов посмотрел на Евсеева, и непонятно было, то ли он продолжает цеплять товарища, то ли говорит всерьез. — Вот так и остался я без брата. Или без сестры... Родители сами по себе, работой заняты, не до меня им. Если б не Нюшка моя, и в Трудпоселок бы ни к чему вертаться. А и все равно, если она дождется меня, уедем в город, там устроюсь работать. Как мните, товарищ старший сержант, — повернулся Семенов к Евсееву, — дождется или загуляет?
Евсеев, конечно, знал девку Анюту, сумасбродную холеру из соседнего поселка, с которой всю весну перед войной гулял Филя: если по характеру, то она, конечно, никого ждать не станет. Но вопрос не подразумевал такого ответа.
— Дождется, куда денется, — нехотя ответил Евсеев. — Мужиков-то всех подчистую забрали, не с кем гулять сейчас. А вернешься, да еще с медалью какой-нибудь — героем будешь на деревне. За тебя любая девка пойдет.
— И то верно, — с облегчением согласился Семенов. — Но любую мне не надо. Мне Нюшка подходит. Знаешь, как она целуется?! Ого-го!
Евсеев улыбнулся — тут был хороший момент поддеть Филю, спросив, где семеновская подружка опыта такого набралась, но подшучивать так было не в его обычае. И в этот миг, словно через туман, вдруг проглянули черты Галины, Галчонка, как он ее звал, — его первой и единственной любви еще тогда, когда они жили на Ваге, где он с тех пор не бывал, — показалась ее нежная и как будто виноватая улыбка. Но лик ее снова помутился и растаял.
— Как там мясо-то? — стряхнул с себя минутное томление Евсеев. — Жалко, соли нет.
— Да и без соли... — Семенов поднял взгляд на Евсеева, и лицо его, измазанное золой, исцарапанное ветками в лесу, обветренное и выгоревшее на солнце, вдруг сделалось точно мел, а улыбка, как подмытый берег реки, сползла с лица. В тот же момент Евсеев почувствовал, как к его затылку приставили что-то холодное, должно быть ствол. «Ну вот, попались! — пронеслось у него в голове. — Эх и дурак я! Этот проклятый заяц!..»
— Дас ист во дизе герух! — обратился тот, что сзади, ко второму немцу-коротышке, вышедшему на поляну из кустов. Евсеев понял так, что нужно поднять руки, и он поднял.
— Вот гады, не дали мясо доесть! — плюнул Семенов. Бледность на его лице сменилась болезненной краснотой.
Видимо, коротышка принял плевок на свой счет. Он потянулся к Семенову и с размаху ударил его наганом. Тот вскрикнул, повалился возле кострища — вожделенное и такое недостижимое теперь мясо оказалось в каких-то сантиметрах от его лица. Коротышка — судя по погонам с каймой, унтер-офицер — прижал его шею коленом к земле и вывернул ему руки, связав их сзади сушившейся семеновской портянкой. Потом подошел к Евсееву, толкнул его лицом в траву и проделал с ним то же самое.
— Драпать надо, расстреляют, — процедил Евсеев и тут же получил по затылку прикладом. Но он успел глянуть на Семенова и понял, что тот услышал его.
Немцы подняли пленников и, громко переговариваясь, повели. Из всей их речи Евсеев уловил, что их вычислили именно как партизан. Значит, шансов не было: партизан или расстреливали на месте, или для устрашения вешали на базарных площадях в селах, и те висели, источая вонь, пока ветер не рвал подгнившую веревку либо не приводили на казнь следующую партию партизан.
Со связанными за спиной руками они успели пройти с километр. Вели их той самой, едва заметной, тропой, которой они сами шли сюда. «Скоро начнется гривка между двумя оврагами, кустарник по склонам. Лучшего места для того, чтобы бежать, не будет», — подумал Евсеев. Тем более что туман, который сыграл с ними злую шутку у костра, скрыв подкрадывавшегося врага, теперь был за них: он клубился прямо под ногами, в трех шагах очертания человека уже читались с трудом.
— Гривка! — вслух сказал Евсеев, повернувшись к коротышке, который шел за ним.
— Вас хат?!. — истерично крикнул немец и навел на Евсеева свой вальтер.
— На гривке, — спокойно повторил Евсеев, не глянув на Семенова, и продолжил идти.
На узкой гривке между двумя оврагами пришлось выстроиться в цепочку. Пройдя несколько шагов, Евсеев резко развернулся, толкнул головой в живот идущего следом коротышку, гортанно крикнул и нырнул в овраг. Повалился с обрыва, запнулся, раскровил щеку, покатился, вскочил, снова запнулся, пополз, побежал. Судя по шуму где-то сзади, Семенов тоже смог прорваться. То, что Евсеев ринулся не по ходу движения, как можно было ожидать, а назад, на мгновение ввело немца в ступор, и потому сначала он выстрелил куда-то над головой — это и спасло, потому что от следующих выстрелов уже был шанс укрыться в тумане.
Так и оказалось: немец, расстреляв в молоко все восемь патронов, что-то злобно прокричал — и все стихло. Последняя дурная пуля из обоймы просвистела рядом и застряла в стволе ольхи. Скоро они приведут сюда автоматчиков с собаками и будут прочесывать район. Если туман быстро сойдет, а они не успеют убежать порядочно, шансов спастись не будет. Ждать Семенова было некогда, и Евсеев ускорился туда, где, по его ощущениям, был спуск к реке.
Он бежал неуклюже, с завязанными за спиной руками, грузно топая по мелкому ручью, протекавшему по дну оврага. Через несколько минут остановился и прислушался: погони не было слышно. Но не было слышно и Семенова. Подстрелили? Видно, свернул не туда. А куда надо было? Об этом они не договорились, да и не было такой возможности. Евсеев остановился, крикнул: «Семе-о-онов, ты где?!» — и прислушался. Но плотный туман глушил звуки, как подушка. Тишина стояла абсолютная, однако сердце в груди раскачивалось, как язык колокола, и казалось, сейчас ударит так, что разорвет нутро.
Найдя на дереве сук покорявее и потолще, Евсеев попытался содрать обмотку с больно вывернутых и туго затянутых рук, но ничего не вышло — связаны руки были со знанием дела. И он с изодранными в кровь запястьями продолжил неуклюжий бег вниз по ручью.
Скоро добежал до незнакомой речки с заболоченными берегами и стал продираться кустами вдоль нее, иногда проваливаясь чуть ли не по пояс. Он надеялся, что, быть может, где-то поблизости есть брод или — еще лучше! — мост. Но вместо этого он нос к носу столкнулся с Семеновым. Тот делал то же самое, что и Евсеев четверть часа назад: терся спиной, как медведь, о дерево, пытаясь сорвать обмотку со связанных рук. В первое мгновение Семенов испугался треска из-за кустов, вскочил, но тут же споткнулся, повалился и уже не мог подняться.
— Лежи давай, повернись только! — прохрипел Евсеев, сел рядом и начал зубами развязывать и разгрызать узел на руках у Семенова.
Когда это ему удалось, дело оставалось за малым: то же самое должен был сделать Семенов. Но у того долго не получалось. Евсеев уже начал ругаться и подсказывать, вспоминая, как хитро был завязан предыдущий узел.
— Всё! — закончив, облегченно выдохнул Семенов и повалился на траву.
— Вставай, воин, нашел время развалиться! Видишь, туман начал рассеиваться? Нам надо уйти как можно дальше. Представляешь, где мы?
Младший кивнул и махнул рукой:
— Если в сторону будана, то нам туда. Километров четырнадцать-пятнадцать. Но я не знаю...
— Чего не знаешь?
— Не знаю, как там. Вчера оттуда доносились сильные взрывы. Слышали?
— Да слышал я... Может, не оттуда. Да если и так... Куда нам еще идти?
— Там есть нечего. Найти бы хоть что-нибудь. Как вспомню мясо, эх...
— А ты не вспоминай, проехали! Куда двинемся? Есть поблизости какое-нибудь селеньице?
— Километрах в пяти должна быть деревня. — Семенов без труда включил свою феноменальную способность к ориентации. — В той стороне. Если не сожгли.
— Там и будут нас в первую руку искать. Но если переждать до ночи... Раз фрицы из дозора, которые нас взяли, лазили поблизости, стало быть, базируются они где-то недалече по этой стороне, — сделал вывод Евсеев. — Значит, скоро явятся с собаками. Нам надо где-то переплыть на другой берег, чтоб сбить их со следа.
Вдвоем они снова стали продираться вниз по течению вертлявой заболоченной лесной речки, ища подходящий спуск к воде. Но везде река была без кромки, без тверди по краям: вдоль берега тянулся тростник, да жаглица, да ряска, а когда пробовали зайти, дно оказывалось вязким и илистым. Семенов несколько раз натыкался на сучки своими босыми ногами и вскрикивал. Евсеев оборачивался и грозно смотрел на него, но ничего не говорил. Чего говорить, когда и так все ясно. Наконец в одном месте кусты расступились, и они увидели среди кувшинок полузатопленную рыбачью плоскодонку.
Евсеев подобрался к лодке и попробовал ее поднять. В одиночку не вышло. Вдвоем они втащили ее на траву и слили воду. Весел в кустах не нашлось.
— Оттолкни лодку и садись сзади! — скомандовал Евсеев, а сам скинул бушлат, закатал рукава и растянулся на дне головой вперед. Рыбацкая плоскодонка отчалила от берега, притопившись почти по самые борта. Евсеев, навалившись грудью на лавочку, начал грести руками. Медленно лодка стала выплывать из зарослей на течение, где уже оставалось только подправлять ее движение.
— Давайте подменю, — неуверенно предложил через несколько минут Семенов. — Студена вода-то небось?
— Нет... — прохрипел Евсеев и продолжил отрывисто выталкивать фразы между гребками: — Долго не будем плыть... Времени нет... Догонят, стервецы... Лодку бросим.
— Зачем? А как же мы?
— Все равно увидят след... Как мы стаскивали лодку... Будут искать нас ниже по течению.
Беглецы миновали три излуки, и Евсеев подгреб к небольшой, поросшей камышом заводи у противоположного берега. Туман уже почти рассеялся.
— Соскакивай и стой здесь, в воде, на берег не выходи... Если нас увидят местные, тоже аминь — запуганы так, что могут донести.
— Будешь бояться тут... Давеча вон девка до лагеря добрела из деревни, сказывала, как лютуют мадьяры, — стал вспоминать Семенов, спрыгнув с лодки. — Всех, кто в лес не успел убежать, объявили партизанами, столкнули в силосную яму, а сверху накидали сена с хворостом и подожгли. Мясом горелым, мол, пахло неделю. Пять десятков человек сожгли...
— Точно ли мадьяры? — зачем-то спросил Евсеев, хотя какая, в сущности, была разница.
— Так их легко узнать — у них такие пилотки клоунские, вроде как петушиный гребешок с двумя пуговицами. А ляхи сейчас все в полицаи подались. Говорят, скоро французики тут появятся, за Наполеона поквитаться, — ждут их...
— Ох ты, а шаромыжников-то чего опять принесло?! Мало им при Березине влепили... А ты давай не болтай! — оборвал Евсеев то ли себя, то ли товарища. — Экономь тепло изо рта. Нам еще долго терпеть.
Семенов задрал гимнастерку:
— Смотрите, у меня от этой сырости какая-то сыпь пошла по животу.
Евсеев махнул рукой и отвернулся. «Бедолага, — подумал он. — А теперь ему еще и в ледяной воде придется торчать».
— Как вы думаете, в аду жара или холод? — спросил вдруг Семенов.
Евсеев засмеялся:
— Я там пока что не был, не знаю.
— Я так думаю, что холод.
— Ты вот что... Чтоб совсем не околеть, ладно, в воду не заходи. Пока я не вернусь, можешь посидеть вон у березы. Только чтоб тебя не видно было, и траву там не вытаптывай, следов не оставляй: сел — и сиди не шевелясь. Когда вернусь, придется в воду лезть, так что тепло береги!
Евсеев оттолкнулся и продолжил грести уже в одиночку, а вскоре скрылся за поворотом реки. Вернулся он часа через два. Холодное солнце уже встало над деревьями, вперилось в землю мутным белесым бельмом. Замерзший Семенов сидел возле березы с закрытыми глазами, скорчившись, словно деревянная коряга. Только тут Евсеев хорошо рассмотрел, как худо выглядит его собрат по оружию — окоченевший, тощий, бледный, губы посинели от холода или, скорее, от многодневной голодовки, оттопыренные уши были белы как мука.
— Как ты? — постарался спросить его как можно мягче.
Тот не откликнулся, сидел все так же безжизненно — Евсеев сперва даже испугался. Но растолкал его — оказалось, парень спал. Семенов приоткрыл веки и, кажется, попробовал вникнуть, что от него требуется, потом поднял синюшную от холода руку и мотнул головой в знак того, что все нормально.
— Ну, вот и дело, вот и отлично! — Евсеев попробовал как-то ободрить Семенова и легонько тюкнул его костяшками по спине. Тот вздрогнул всем телом и глубоко, смачно закашлялся. — Держись, парень. Кашлять нельзя, а то нас тут быстро... — Он не договорил, потому что знал, что никогда не стоит озвучивать худшее: что скажешь, то и притянешь. — Вот здесь, среди веток в камышах, и переждем. Здесь нас овчарки не учуют. А холод потерпеть еще придется.
Через полчаса Евсеева, стоявшего по пояс в воде, уже трясло крупной дрожью. Но при этом он весь был внимание, до боли в ушах, в висках вслушиваясь в тишину и легкое журчание реки. Всякий раз вздрагивал, когда на другом берегу неясыть кричала сначала: «Ого-го-го!», а потом трясущимся голосом, словно продрогнув: «Угу-гу!»
Вдруг Евсееву что-то почудилось. Мужские окрики — легко узнаваемая гавкающая немецкая речь. Несколько раз осторожно рыкнули наученные не лаять псы. Евсеев тут же присел, заглубившись по подбородок, и вместе с собой погрузил в воду Семенова, подломив под колени его неслушающиеся, деревянные ноги.
— Вставай вот здесь, ближе к траве, — шепнул Евсеев, — чтобы только нос из воды торчал. Опустись на колени, глаза закрой — вот так... И не шевелись, чтоб волны не пустить.
К счастью, ветерок, разжижавший туман, задувал с противоположного берега и учуять их овчаркам было трудно. А рябь на воде, колыхание тростника на ветру делали непроизвольные движения беглецов незаметными даже в бинокль. Была это облава или ему показалось, Евсеев так и не понял. Через четверть часа примерно, когда они совершенно околели и торчать в воде стало невмочь, он осторожно высунул голову из воды. Было снова тихо. Опасность миновала.
Евсеев выволок Семенова на берег, стащил с него одежду и выжал — тот лежал голый, неуклюже разбросав руки в стороны, и походил на убитого. Был ли это сон или какая-то особая форма бесчувствия, но растормошить Семенова не было никакой возможности: он слабо дышал, ни на что не реагировал.
Очнулся Семенов только под вечер, и Евсеев понял это по тому, что тот жалобно застонал. За это время Евсеев тоже успел вздремнуть. До села, со слов Семенова, было километра полтора. Название селения он не знал, но, закрыв глаза, уверенно указал направление. И в самом деле, скоро они вышли на тропу, становившуюся по мере приближения к селу все натоптаннее. Потянуло навозом и сладковатым березовым дымком от топящихся печей. В траве у первых огородов, уже вскопанных на зиму, они залегли и стали слушать. Где-то перебрехивались собаки и хрипели петухи, замычала корова в стайке, послышался детский голос — обычные сельские звуки, ничего подозрительного.
Евсеев выдохнул. Провел рукой по лицу: не замечал прежде, как отросла борода, а усы уже лезли в рот. А у Семенова растительность на лице так и не появилась. Все-таки юнец еще. Себя Евсеев чувствовал глубоким стариком, хотя храбрился, не показывая усталости — главного признака старости. И хотел бы он стряхнуть с себя чужие, лишние годы, навьюченные войной, но не знал как. А прежних сил и в самом деле уже нет: ноги дрожат, одышка одолевает, а после ходьбы — черные круги перед глазами, застилающие всё. Только третьего дня вышли из лагеря, а вымотан Евсеев был так, будто месяц бродил по болотам да чащобам.
Начал сеять дождь. Деревня стихла и теперь казалась словно вымершей. На краю огорода виднелось какое-то деревянное строение, похожее на картофельную яму. Можно спрятаться от дождя там до темноты, да и меньше шансов, что обнаружат. Они медленно поползли на четвереньках. Но мысль у обоих была не столько об укрытии, сколько о том, что, быть может, удастся там найти что-нибудь съестное. Яма оказалась пустой, потому, наверно, и дверца была не заперта. Оказалось, это ледник, и довольно высокий, так что можно было встать во весь рост. С потолка сквозь щели капало, вдобавок пол оказался каменным, холодным. Семенов лег, болезненно скрючился и, кажется, снова впал в беспамятство, а Евсеев лежа стал смотреть в приоткрытую дверь — отсюда стоявший неподалеку дом хорошо просматривался. Страстно хотелось курить. Под конец он стал воображать, что курит. Это было не то, но грело само воспоминание о курении.
Начало смеркаться. На распаханный огород выбежала лиса и тенью стала прохаживаться в поисках мышей, фыркать, разгребая брошенную и уже успевшую пожухнуть картофельную ботву. В какой-то момент она приблизилась на расстояние протянутой руки, но их, схоронившихся в погребе, не учуяла. «Ну вот, дожили, — подумал Евсеев, — точно у покойников, совсем уже не осталось в нас с Семеновым ни человеческого тепла, ни запаха».
Каменный пол дышал холодом, а подложить под себя было нечего — до ботвы ползти через половину вспаханного огорода, так можно вспугнуть собак. Евсеев подтолкал себе под живот немного мокрой земли: все же она не излучала того могильного холода, от которого ломило кости. Попробовал приподнять Семенова, чтоб и под него подгрести земли, но не смог — понял, что его на это не хватит: все силы вытянул непрекращающийся озноб, когда зуб на зуб не попадал. Острая боль от холода обрушивалась волнами и прокалывала, точно пикой, все его нутро, пробирала до самого позвоночника. Евсеев, до крови закусив губу, заставлял себя переворачиваться с боку на бок, сжимать кулаки, закрывать-открывать глаза, шевелить ногами. «Сейчас бы в баньке попариться», — вздохнул вдруг о несбыточном: казалось более реальным, что сейчас из деревни выскочат какие-нибудь красноармейские кавалеристы.
Когда наваливающаяся сонливость немного отступила, Евсеев, превозмогая слабость, стал тормошить Семенова, но тот по-прежнему не реагировал. «Так он ведь и до утра не дотянет», — мелькнула мысль. Нужно было выбираться, наконец. Ближний дом все так же не подавал признаков обитаемого — ни в одном окне не появлялся свет. «Может быть, там укроемся», — решил Евсеев. Но из какой-то более глубокой части сознания выплыло требование поискать там не убежища, а чего-нибудь съестного.
— Вставай! — Он тряхнул спутника, отключившегося в неудобной позе, с подвернутой под себя ногой. «Точно как убитый», — подумал Евсеев. Ему много раз приходилось видеть убитых, и если они были не раскромсаны взрывом, то при взгляде на них первая мысль была не о смерти, а о неудобстве лежать в такой позе.
Не без труда Евсеев растолкал все же Семенова, но идти тот не мог, даже сидя на каменном полу, заваливался — правый бок, на котором он лежал на каменном полу, совершенно онемел, и половина тела отнялась. Евсеев выволок его наружу и, взвалив на себя, пополз на карачках к дому — Семенов инстинктивно помогал себе одной ногой, но только мешал этим.
По липкому глинистому огороду они добрались до крыльца. Запыхавшийся Евсеев уже не думал о том, что может наткнуться на собак или что их заметят полицаи, — было уже все равно. Он с ходу пихнул дверь, ввалился в темные сени и — последний рывок: пригнувшись под притолоку, толкнул дверь уже в хату. В лицо дохнуло теплом и запахом человеческого жилья.
В полусумраке избы, отчетливо заметный на фоне окошка, за столом сидел человек и испуганно смотрел на ввалившихся.
От неожиданности Евсеев отпустил Семенова, и тот с грохотом повалился на пол. С печи послышалось: «Кто там еще?» Высунулась голова женщины и тут же спряталась обратно за занавеску.
Евсеев, наконец, пришел в себя:
— Чего сидишь? Помогай! Видишь ведь! — Он кивнул на лежащего без сил бойца.
Человек что-то пробормотал, поспешно вскочил и стал усаживать Семенова на скамью возле печи.
Это был невысокого роста, но очень плотный мужичок лет сорока, в обрезанных валенках и стеганке. Вся его фигура выдавала испуг. Привалив Семенова спиной к теплой печи, он замер перед Евсеевым по стойке смирно, точно в ожидании дальнейших распоряжений.
— Ну, чего встал? — сказал Евсеев. — Свои мы. Старший сержант Евсеев. А этот юнга... — он покосился на сидящего бесчувственно Семенова, — рядовой 65-го полка...
— Да-да-да, конечно, — зачастил хозяин, — заходите, товарищи. Распрануйтесь, обсохните. Вон какие мокрые да грязные. Обогреться надоть. Погода псиная. Уже сколько поливало ноне, все залило. А по всем приметам днями снег падет...
— Поесть что-нибудь имеется? — прервал его суесловие Евсеев.
— Та ничего особо... Коровы у нас нема. Еще зимой, як минула, ее раздуло. Бес яго ведае, чаму. Може, проглытнула шо. Пришлось прирезать. Теперь вот сидим без молока. Раньше-то хошь сиру из обрата сробишь...
— Да поесть-то дай чего-нибудь, три дня голодуем! — снова прервал его Евсеев.
— Разве что картошки, если ваша ласка!.. Олеся, слазь с печи, надо на стол шо-нить сметать. Вытащи бульбу из печи да огурков из бочки положи... Також бражки не забудь!
На печи послышалось шевеление, и спустилась женщина лет тридцати, такая же невысокая, с мелкими, кошачьими чертами лица. Она молча вытянула чугун из печи и вопросительно посмотрела на мужа. Тот кивнул ей, и она ушла в соседнюю комнату.
— У нас там подпол, — проводил он ее взглядом, — пусть харчи принесет. Гасницу3 запалить?
— Не надо. В темноте посидим.
Евсеев огляделся. Горница была не из бедных: пол из скобленой доски, печь крепкая, беленая, без единой трещины, на гвоздях у входа пузатится разная одежда, божница богатая, с лампадой из зеленого стекла.
— Что, в Бога веруешь? — спросил Евсеев, кивнув в сторону икон.
— Та ведь крещеные... — осторожно ответил хозяин.
Это была не просто картошка, а картошка с луком. Евсеев ел по чуть-чуть и запивал маленькими глотками воды, не притрагиваясь к стакану с брагой — знал, что его, ослабевшего, сразу развезет. Одновременно он старался не дать возможности отогревшемуся Семенову подавиться картошкой, но вот стакан у него отбирать не стал: «Пусть согреется».
— Тебя как звать? — спросил Евсеев у хозяина, который молча, но внимательно смотрел, как гости едят.
— Мыколой кличут. Пинчуком.
— Немцы в деревне есть?
— Нету... Точнее, были, но не фрицы, — запутался хозяин. — Комендатура есть, но кто в ей сейчас, не знаю. Може, и немае никого.
Евсеев отложил ложку и уставился на хозяина.
— Были сегодня, — начал поспешно объяснять тот, — но пришлые, спрашивали про партизан, погреб смотрели. Може, вас шукали. Не разумею, чи засталися в селе...
Что-то в поведении и словах хозяина не нравилось Евсееву, но что именно — он не мог понять: суматошность ли его или угодливая болтливость. Хотя, может, просто испугался нежданных гостей. «Станешь тут бояться, когда то немцы, то партизаны», — попытался утишить свое вдруг нахлынувшее беспокойство Евсеев.
— Вы оставайтесь! Мы вам на печи уступим... — продолжал хозяин.
«Что-то слишком сладко поет», — наконец сформулировал Евсеев. Прежде, когда они, партизаны, заваливались к деревенским, те старались побыстрее спровадить их, готовые отдать что угодно, лишь бы не подвергать опасности семью. А тут такое гостеприимство необычное. «Может, у него детей нет? Да вон вроде кукла детская... Значит, девочка. Только что-то ее не слышно, не видно...»
— Мы, наверно, разбудили вашу девочку? — спросил Евсеев как бы между прочим.
— Нет, что вы, вона там. — Хозяин указал на дверь в соседнюю комнату. — Спит ужо...
В глазах его неожиданно промелькнул страх. «Что-то не то», — снова подумал Евсеев.
— Ну, если прилечь поспать немного в сухости, это дело хорошее, — нарочито лениво произнес Евсеев и встал из-за стола. — На печи нас разморит. Покажи-ка мне, хозяин, где тут, кроме печи, можно кости бросить. — И шагнул к двери.
Мыкола, видно, хотел его опередить и дернулся было, но остался на месте, а жена, севшая рядом с ним после того, как принесла снедь, как-то зло и в то же время со страхом глянула на мужа.
Вторая комната оказалась крохотной; кроме сундука и кровати, в ней ничего не было.
— А где дочка-то? — удивился Евсеев.
— Мабуть, до бабуси убежала... — пробормотала жена. — У нас там есть выход в сенцы.
Евсеев взглянул на хозяина:
— Так ты же вроде говорил, что она спит?
— Можливо, проснулась, — подтвердил Мыкола. — Спужалась да и утикала к бабусе. Вот дам ей лозы...
— И где же у вас бабушка живет?
— Там... — растерянно указал рукой хозяин.
Евсеев встал, еще раз обошел жилище и снова подумал: «Что-то тут не так». Окликнул Семенова:
— Одевайся, пойдем!
Тот уже согрелся и задремал.
— Что, не переночуем даже? — Семенов сонно приоткрыл глаза, но, натолкнувшись на выражение лица Евсеева, поправился: — Хоть бы подсушиться еще немного...
— Именно, хоть подсушитесь, — поддакнул Мыкола. — Я затоплю зараз печь.
— Ты давай лучше торбу картошки нам наложи...
— Будет сделано. Олеся, ну-ка, живо! — прикрикнул хозяин на жену.
— Оружие есть? — спросил Евсеев.
— Есть... в погребе. Одностволка. Там... — Мыкола показал рукой и добавил жалостливым голосом нищего с паперти: — Старое уже ружьишко. И патронов немае.
— Тебе, Мыкола, я вот что скажу... — Евсеев произнес это так, что угодливая улыбка сползла с лица хозяина и он побледнел, это стало заметно даже в полумраке. — Поищи-ка у себя какую-нибудь обувку для него.
Хозяин облегченно выдохнул:
— Ведомо, как же без обувки, а ведь я не помитил, шо без обувки хлопец. За сучасную погодою не токмо ноги застудить можно, а весь организм. Кажуть, ноги треба трымать в тепле, а голову в холоде...
Евсеев с трудом удержал себя, чтобы не цыкнуть: «Заткнись!» Но промолчал, следя за тем, как полез Мыкола за печь и вытащил замотанные в мешковину кирзачи.
— Откуда у тебя такие? — удивился Евсеев: подобную обувь он и в армии-то видел редко, причем только у офицеров. — С убитого снял?
— Та як же, что вы такое говорите! Купил у соседей. Добрые сапоги, що правда, размер завеликий... — суесловил хозяин, пряча глаза и разрывая тряпку на портянки.
— Да ладно, не один ты такой...
— Ого! — улыбнулся Семенов, когда сапоги оказались у него на ногах.
Даже согревшись, он по-прежнему медленно нагибался и едва двигал непослушными пальцами — последствия переохлаждения. Поднявшись с табуретки, попытался притопнуть, но едва не упал.
Евсеев выглянул в окно. Почти стемнело, и это было хорошо. Но вот что тучи разогнало и в небе сияла полная луна, жирно отблескивая на подмерзшей земле огорода, — это скверно. Он все еще колебался, остаться до утра или уходить. Должно быть, подморозит ночью. Снова глянул на Семенова: тот продолжал давиться картошкой, торопясь подъесть остатки из миски.
— Я же сказал — одевайся, уходим! — наконец не выдержав, рявкнул Евсеев.
— Погодите, Анисим Николаич, доем только! Три минуты. Когда еще сладим поесть...
— Некогда годить. Ладно, три минуты тебе даю.
Семенов бросился пихать в рот остатки с тарелки, дожевывая. Несколько вареных картофелин и луковиц Евсеев с Семеновым рассовали по карманам и минут через пять с мешками картошки за спиной уже стояли на крыльце. Мыкола вышел проводить их.
— Куды вы теперь? — спросил он.
— В лес, к своим, куда еще? — ответил Семенов, неловко топчась на месте. — Великоваты сапоги-то. Но ничего, всяко лучше, чем босым.
— До яру идите, там стежка есть...
Пригнувшись и то и дело оглядываясь, беглецы направились в сторону леса. Семенов, опустив голову, любовался своими смазанными жиром сапогами, которые, конечно, болтались на его ногах. Евсеев шел впереди, но что-то заставило его оглянуться: заметил мельком, что хозяина на крыльце уже нет.
Шагов через двести Семенов внезапно охнул, застонал и повалился вперед. Только после этого до Евсеева донесся звук щелчка: это был выстрел. «Мосинка! Вот тебе и старое ружьишко…» — подумал механически и повалился на землю. Он узнал этот чмокающий звук, похожий на удар хлыста, — такая же винтовка была у него в отряде, пока он не утопил ее в болоте, когда спешно уходил от облавы. «Ружьишко, говоришь, патронов нет, говоришь, еж вареный!» — бормотал Евсеев, волоча на спине обмякшего Семенова и чувствуя, как с каждым шагом слабеет. У края оврага он положил товарища на землю и расстегнул верхнюю пуговицу ватника: пуля прошила мешок с картошкой и попала в шею, разворотив все возле ключицы. Пульсирующими толчками кровь обильно стекала Семенову под бушлат. Он прохрипел что-то, но было не разобрать. Евсеев сначала попытался пальцами зажать рану, потом стащил с Семенова пилотку, чтобы остановить кровь, другой рукой в это время шарил в поисках чего-нибудь, чем можно рану перевязать. Расстегнув свою телогрейку, попытался оторвать от рубахи полосу, но руки не слушались.
— Ничего, Филя... сейчас кровь остановим... пойдем дальше, — бормотал Евсеев, раздирая рубаху зубами. — Потерпи, прорвемся. Через день будем в отряде, картошку испечем.
— Анюта дома? — слабо простонал Семенов.
— Дома, дома, — ответил Евсеев, пытаясь замотать шею раненого. — Где ж ей еще быть?
— Позови...
Вдруг Семенов сделал глотательное движение и затих. Лицо молодого бойца, до этого выражавшее недоумение и боль, разгладилось — боль прошла. Евсеев наклонился: расширившимися зрачками Семенов смотрел на луну, а может, это луна уже смотрелась в него. Евсеев закрыл ему глаза и повалился рядом. Руки его все еще дрожали от напряжения.
— Эх ты, боже мой, да что же это... Не уследил я, хрыч старый, не сберег парня, — шептал Евсеев.
«А ведь пуля-дура могла меня пробить! — мелькнула мысль. — Если б шел вторым, то это у меня бы сейчас из шеи выбулькивала кровь...» Но эту змеиную мыслишку Евсеев постарался сразу глубоко впечатать в глину, еще и вжать в землю поглубже, потому что негоже думать так о собрате, когда он вот, еще теплый, лежит рядом.
В этот миг он услышал голоса, доносившиеся со стороны дома, до которого было метров триста, не больше. Евсеев поднял голову: на крыльце у Мыколы собрались несколько человек и бурно о чем-то переговаривались. Прошло еще несколько мгновений, а он все лежал, словно в оцепенении, на земле, и сердце бешено билось, но ему казалось, что это земля стучит ему в спину снизу: вставай! На самом деле это был приближавшийся топот тяжелых сапог. «Похоже, собак нет, — быстро оценил ситуацию Евсеев. — Значит, есть шанс убежать». И рывком скатился в овраг. По дну оврага он бежал, временами останавливаясь и прислушиваясь, до тех пор, пока крики преследующих не стихли. И только тогда обнаружил, что в руке у него зажата окровавленная пилотка Семенова. Подумал: «Целый день как заяц», — и спрятал пилотку поглубже.
Забравшись в чащу, он набросал лапника под ель и повалился без чувств. Но еще до первых лучей солнца проснулся от холода. Ночью был зазимок. Встал и побрел, пошатываясь и плохо ориентируясь, в поисках места расположения своего лагеря. Уже к середине дня он настолько устал, что пробирался через буреломы и увязал в гатях с тупым безразличием. И долго бы он еще ходил, если бы не наткнулся на приметную одинокую березу на пригорке у края болота, служившую прежде для бойцов-партизан указателем начала тропы через гать. Березу теперь было не узнать: все ее нежное тело было посечено осколками, словно кто-то истыкал ее пикой, верхушка была срезана и теперь, с раскинутыми в сторону нижними ветвями, она стала похожей на распятие.
По прямой отсюда до места дислокации отряда было чуть больше километра, но все три, если идти по укромной, известной только своим тропе, кружившей от кочки к кочке и местами даже поворачивающей в обратном направлении.
«Ну вот, почти дошел», — подумал он, гладя изуродованный ствол березки.
Проваливаясь по колено в мшистую зыбкую индолу4, Евсеев преодолел Чертово болото (название они в отряде придумали сами, не зная настоящего) — обширное, поросшее чахлым кустарником и травой зыбкое пространство, где не рисковали появляться фрицы, служило естественной и главной защитой их отряда. Кое-где окошки на болоте были уже с заберегами, образовавшимися ночью. Он шел по гривкам от одного клоча5 к другому, думая, как бы не нарваться на мину, которую свои же могли поставить в последние дни. Ни дымка, ни звука не доносилось со стороны лагеря — казалось бы, так и должно было быть: маскировка, камуфляж и все такое. Но что-то подсказывало Евсееву: дело неладно. И чутье не обмануло: на месте лагеря оказалось несколько десятков воронок от снарядов, уже начавших заполняться водой. И ни души. Даже какой-нибудь маленькой птичьей душонки. Тел убитых тоже не было — значит, кто-то все-таки выжил и собрал их, похоронил. Вскоре Евсеев обнаружил свежую братскую могилу, но… ни следов, ни указаний на то, куда ушли выжившие, на восток или на юг, ведь путей отхода у отряда было несколько. Евсеев решил идти на восток — там, в трех десятках километров, на острове посреди болота базировался еще один партизанский отряд, но проходов к нему Евсеев не знал и разбит он или нет — тоже. В любом случае это направление позволяло ему идти в сторону фронта. Он твердо намерен был, если не выйдет на партизан, пробираться через фронт в действующую армию.
Перед уходом Евсеев проверил отрядный схрон — о нем пару месяцев назад распорядился командир на случай, если придется срочно уходить. Возле него обнаружил труп — кто это был, не разобрать, тело было разворочено взрывом, да и, кажется, ночью какие-то звери его уже объели. «Ну вот, свои ушли и схрон даже не вскрыли. Значит, некому было. Похоже, здорово наших покрошили», — подумал Евсеев.
Полдня Евсеев провозился со схроном — сначала надо было разминировать лаз в него. Ближе всего к люку лежали винтовки и патроны к ним, здесь же в ящиках хранилось кое-какое обмундирование. Самой ценной вещью были радиоуправляемые мины Ф-10 с ламповыми радиоприемниками в прорезиненных мешках. Перед наступлением фрицев их везли в Харьков минировать заводы, но опоздали — город уже сдали. Тогда, чтоб мины не достались врагу, их не стали уничтожать, а передали отряду. Командир приказал положить их в схрон и хорошенько прикопать — до лучших времен. Они были в полном комплекте, с аккумуляторными батареями, но те давно разрядились, и зарядить их в отряде было негде. Евсеев сейчас предпочел бы, чтобы под землей нашлась какая-никакая еда. Ее там, однако, не было. Зато достал полушубок, валенки и ушанку.
Впереди был долгий и опасный путь по болотам и лесам, ночевки под снегом. По прикидкам Евсеева, пройти нужно было до линии фронта километров триста. Он не знал, что пройти ему предстоит вдвое больше. Была осень 1941-го, бои шли уже под Москвой...
Часть вторая. На побывке
В свою Андреевку Евсеев заехал коротко: родных у него там не было, друзья на фронте, да и весь деревенский народ был в эти июньские дни на сенокосе. Старух навещать он не стал, а сразу отправился пешком в Трудпоселок, где жили родители Семенова — тетя Люба и дядя Вася. Они занимали половину деревянного леспромхозовского барака, смотревшего окнами на Чулым, — эту квартиру с большой русской печью им выделили относительно недавно, когда дядю Васю сделали бригадиром. Зайдя в калитку, он постучал в окно. За ним мелькнуло женское лицо, и тут же послышалась дробь ног по ступеням в сенях. Хлопнула дверь — и вот она уже стоит на пороге, узнала его, но еще не поняла, что делать, то ли заплакать от радости, то ли броситься обнимать. На Севере, где росла тетя Люба, не привыкли к нежностям. Но вдруг словно надломилось в ней что-то, она раскинула с плачем руки и заключила его в объятья.
От сына у нее давно не было никаких известий, мысленно она проводила его в плен и не надеялась, что он вернется скоро — но вернется же! А посмотрев внимательно на Евсеева, уронила зажатый в руке платок, опустила голову и отшатнулась — все поняла сразу.
Евсеев помнил мать Семенова еще бойкой теткой в рабочей телогрейке, а тут встретил сухонькую старушку в платочке, белом в крапинку. Все лицо ее, как лист лопуха, избороздили морщины, и теперь на нем отражались только усталость и озабоченность.
Никакой бумаги с собой Евсеев не привез, не успел справить. Полез в карман и вместо похоронки протянул пилотку:
— От него осталась, тетя Люба, а больше ничего взять не смог.
Она взяла пилотку, уткнулась в нее лицом и заплакала, вздрагивая всем телом.
Сохранить пилотку Евсееву стоило немалых трудов: когда в Полесье он пробирался через немецкие тылы к линии фронта, то выронил ее, потом возвращался с километр, наверно, — нашел. Перейдя через линию фронта и сдавшись особистам, прятал ее, сидя в арестантских в ожидании очередного допроса. Там же он пришил ее к подкладу гимнастерки. Потом Евсеева зачислили в состав стрелкового полка 113-й дивизии. Но долго повоевать он не успел: зимой 1942-го под Вязьмой полк попал в окружение, где Евсееву разворотило плечо, и так, раненый, с висевшей плетью рукой, снова лесными тропами он выходил к своим — пригодился осенний опыт. А когда вдобавок к ранению он обморозился и уже прощался с жизнью, его совершенно случайно подобрал разведдозор. Евсеев понял это так: наверно, какое-то дело в жизни не завершил. Решил, что должен побывать дома у Семенова, передать тете Любе политую кровью сына пилотку — ведь неслучайно, несмотря на все, оставалась она с ним.
Из сортировочного госпиталя его отправили на долечивание в Томск, а оттуда до Чулыма было уже рукой подать...
Они сидели в избе с коптящей на столе керосинкой, Евсеев ел что бог послал, а тетя Люба молчала, только изредка задавала какой-нибудь вопрос, чтобы не прерывалась нить разговора. С присущей ей деревенской деликатностью не расспрашивала Евсеева о последних часах жизни сына. Наконец он сам начал. Рассказал с самого начала: как они летом 1941-го попали в окружение, как оказались в партизанском отряде, как отправились в разведку за припасами — довел рассказ до визита в казавшийся им необитаемым дом на окраине деревни.
— ...Я ведь заподозрил неладное: а где дочка? Вражина говорил мне сначала, что она спит, а потом — что к бабушке ушла. Но я понял: что-то не так. Думаю, надо уходить. Но уж очень оголодали, всё никак наесться не могли, вот и задержались дольше нужного... — Евсеев не выгораживал молодого бойца, когда говорил, что оба наесться не могли, так ведь и было. — А дочка эта, оказывается, побежала в комендатуру за немцами, которые в той же деревне были, но на другом конце, видимо. Привела их. Наверно, этот Мыкола полицаем был и у него была договоренность с немцами на случай появления партизан...
Тетя Люба вытерла глаза и спросила:
— А напоследок-то, перед смертью, успел ли что Филиппок сказать?
— Вот, оказывается, как вы его дома звали. А я Филькой его звал, и он обижался... Последних-то слов не успел сказать, только хрипел, — продолжил Евсеев виновато, умолчав про бред Семенова об Анюте. Ни разу не случалось так, чтобы, когда погибали у него рядом или даже на руках однополчане, им удавалось бы сказать что-то заветное, как это бывает в кино. — Перед этим говорил что-то про сапоги новые, кирзовые, что великоваты. Сапоги-то мы у этого Мыколы реквизировали.
— Ну и слава Богу, хоть ноги сухие были, — перекрестилась тетя Люба. — У нас вон есть его сапоги, да малые тебе будут. Может, возьмешь, кому из солдатиков пригодится?
Евсеев покачал головой:
— Не, через всю страну тащить... — Евсеев произнес это так, как говорят люди, думающие о чем-то совершенно другом. — Не успели мы, эх... — Он тяжело положил ладонь на стол. — Надо было раньше уходить!
— Да уж чего теперь убиваться, — вздохнула старушка.
— Меня когда выкопали из сугроба, я потом в госпитале все думал, что это не может быть случайностью. Значит, я еще что-то не сделал на этом свете. Решил, что должен к вам приехать. Как уж я ехать не хотел, кто б знал! Все много раз перевернулось в душе, сто раз передумал, какими словами буду говорить, как тебе, тетя Люба, в глаза посмотрю. Спасибо, что ты меня пожалела, хоть не заголосила, а то бы я не знаю, как выдержал... — Евсеев расстегнул ворот рубахи, уставился в окно и сидел так с минуту молча.
Во двор зашел грязный бесхозный пес, в прошлой жизни, по-видимому, он был породистой охотничьей лайкой. Понюхал приступку двери и покорно-выжидающе лег перед нею, положив голову на лапы. Тетя Люба, тоже смотревшая в окно, встала и вышла. Через минуту она вынесла псу какую-то похлебку в плошке и потрепала его по загривку.
— Знаешь, тетя Люба, слишком это просто: пилотку отдать тебе — и гуляй, — сказал Евсеев, когда она вернулась. — Вот что я понял про свой настоящий должок: надобно мне будет к этому Мыколе возвернуться да отплатить ему за Филю. Если, конечно, он еще живой. Это ж было мое разгильдяйство, моя вина. Так что прости меня, тетя Люба, говорю тебе еще раз, не сберег я твоего сына. Придется мне отомстить за его молодую горячую жизнь.
Выражение про «молодую горячую» вскочило в его речь, должно быть, из каких-то книг про Гражданскую войну или из фильма, который крутили у них в деревенском клубе еще на Ваге. Они были там с Галочкой, сидели в темноте, держась за руки. Кажется, словно в другой жизни это было... Он мог бы сейчас нарисовать эту картину в памяти, но на ней была бы не та подружка, которую он знал, а другая, правильная, ненастоящая. Он не мог восстановить в памяти ее настоящего лица — оно казалось размытым, как если бы зримое через мутное стекло. Волнистые волосы цвета американского ленд-лизовского шоколада, брови знаком вопроса, несколько едва заметных веснушек на скулах... Но главное — ее голубые глаза, он не мог вспомнить выражение ее глаз.
Тетя Люба внимательно посмотрела на Евсеева.
— Оставь ты этого Мыколу в покое. Что нам до него? Ну, сделаешь смертоубийство. И что, Филиппа вернешь?
— Если за Филю не рассчитаюсь, не смогу я по-человечески жить. Душа у меня будет не на месте...
— Я так думаю, что мать твоя не одобрила бы тебя. — Тетя Люба поджала губы. — Она всегда говорила, что главное — свою душу не погубить, о ней подумать. Вон Христос даже о Своих мучителях молился. А не можешь молиться — прояви усердие, чтоб забыть.
Евсеев нервно пошевелил голыми пальцами под столом — сапоги с портянками он скинул в сенях. Он чувствовал, что не может без раздражения внимать ее гладкой житейской мудрости.
— Когда я малой был, от матери часто слышал, что на том свете воздастся и за добрые дела, и за худые. А о том, что о себе надо думать, она не говорила. Она бы сказала скорее, что надо не робеть положить душу за друга своего. Вот я и положу ее, то есть, может, на том свете мне и влетит по первое число, если, конечно, загробный свет существует. Многих я поубивал, одного даже заколол в живот, как хряка, аж всего кровью обляпало. И меня многие хотели прихлопнуть, да не вышло. Но это другое. За других война ответит, они не на мне. А вот когда за Фильку поквитаюсь, то хоть какая-то справедливость в мире будет восстановлена.
— Послушай, а где крестик, который тебе мать надела? — осадила его хозяйка. — Вижу, ты его не носишь?
— Не знаю, потерял где-то. Политрук у нас в части с каждым, у кого крестик видел, беседу проводил. Ты меня не сбивай... — Перед глазами Евсеева разверзалась картина зла, творящегося в мире: вот война, смерть, боль и кровь, а где-то непосильный труд и снова смерть, а где-то в это время сытые, жирующие мерзавцы жрут самогонку с салом... — Допустим, что я прощаю его и спасаю свою душу, как ты говоришь. А что же будет тогда со справедливостью, тетя Люба?! Похороним ее?
— Не знаю, сам думай! — отрезала она. Стала убирать со стола, и по ее резким движениям заметно было, что она рассержена неуступчивостью Евсеева, не согласна с ним, но не знает, как возразить. Собрав тарелки, взяла их в руки, чтоб нести за печь, в шомнышу6, но остановилась, обернулась: — А только не надо тебе руки марать, не трогай этого Мыколу, не благословляю.
Евсеев досадливо посмотрел на нее: вот же упертая!.. Еще эти ее оттопыренные уши. Он улыбнулся про себя: «Понятно, в кого Семенов пошел».
Евсеев встал, прошелся по комнате, слепо взглянул в окно, механически переставил ухват, стоявший не на месте, перевернул зеркальце на буфете. Тетя Люба гремела посудой за печью.
Евсеев представил на мгновение, как вваливается в дом к Мыколе, как тот таращится на него в ужасе, как он читает приговор... Где его взять, приговор? Ну, пусть это будет приговор совести. А почему бы и нет?
— Так ведь я не просто его пристрелю, я прежде ему приговор вынесу, — продолжил Евсеев. — Сначала сделаю суд. Послушаю, что он скажет. Пару минут дам ему подумать. Может, меньше, зависит от обстоятельств. Так что это не месть. Это другое. Это возмездие.
Тетя Люба перестала громыхать посудой:
— Что ж, себя судьей сам назначишь, чтоб справедливость восстанавливать?
— Война — это другой мир, тетя Люба, там здешние тыловые законы не действуют, — сказал Евсеев погромче, чтоб она там, за печью, расслышала. — Если с твоими представлениями туда сунешься, тебе конец. Границу между войной и миром надо четко знать и не путать одно с другим.
Тетя Люба через пару минут вышла, вытирая руки полотенцем.
— Послушай, дружок мой. Я вот сейчас чего-то вспомнила Демида. Помнишь ли, у нас в деревне был кузнец Демид? Толковый мужик был, мастеровитый. Да однажды у него жеребца Буяна кто-то увел. Может цыгане, может еще кто. Он любил этого коня-то и долго искал, все деревни в округе объехал, спрашивал, не видал ли кто. Может, кто и видел, да не сказал. Так и не нашел своего Буяна. С тех пор его как подменили: лицом почернел, самогон стал пить. Но все еще искал. А как понял, что уж не найдет, взял да и повесился. Вот такая история. Злоба в него вселилась и довела до греха.
— А хотя бы коня не нашли, но нашли бы вора — тогда бы совсем другое дело, — подумав, заметил Евсеев. — Тогда бы, может, не выгорел.
Он помнил этот случай — для деревни это стало большим событием, потому что даже на памяти стариков не случалось у них удавленника. В тот день они с Галиной ушли с вечерки и сидели у реки, опустив ноги с мостков в воду, молчали смущенно, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими словами. И было им необыкновенно хорошо, так что и не нужно было слов. Вечернее солнце зашло за облака, откуда-то с запада приплыла сизая туча, медленно раскачивая косматой бородой. Дунул с поля ветер, понеся пыль и ошметки соломы. Галя зажмурилась, но поздно — соринки попали ей в глаза. Стала моргать, тереть глаза до слез, но убрать все соринки не получалось. Он склонился над ней: «Сейчас я уберу, только не закрывай глаз». Он помнил, как это делала ему мама, но сам впервые в жизни так близко увидел глаз, радужку — какая она удивительная! — как будто тысячи голубых ручейков с краев устремились к черному диску, как к воронке, чтобы опрокинуться туда и исчезнуть где-то в глубине. Этот темный диск словно нарочно прикрывал то таинственное место, где воедино соединяются все ручейки. Галя держала пальчиками веко, а он осторожно лизнул глаз два раза, ощутив соль на языке. Спросил: «Ну как, убралась соринка или еще?» Он хотел, конечно, чтоб еще. Но она поморгала, потерла глаз и кивнула: «Теперь все хорошо». И в благодарность поцеловала его в щеку и лукаво улыбнулась.
А потом они пошли в деревню и еще издали увидели собравшийся у кузни народ. Оттуда доносился возбужденный галдеж — видно, что-то нехорошее произошло. Они с Галчонком переглянулись и хотели пройти мимо незамеченными, но неумолимая сила, какой-то темный соблазн повлек их туда. И по мере приближения к толпе радость, которую они испытали у реки, истаивала, превращаясь в тревогу, а потом, когда они увидели висящего на притолоке Демида с высунутым синим языком и выпученными из орбит глазами на мясного цвета лице, их захлестнули ужас и отвращение. Кто-то схватил Евсеева за руку, потащил в сторону сарая, и он вынужден был вместе с двумя мужиками ловить Демида внизу, когда обрезали веревку. И когда с мужиками грузили тело на телегу, он оглянулся: в толпе увидел ее, Галчонка, с ужасом смотревшую на происходящее.
То неслыханное событие долго обсуждали в деревне, и оно стало будто спусковым крючком к тем бедам, которые начались вскоре. Деревня словно лишилась какой-то невидимой защиты: вроде все шло обычным порядком, одно за другим, ничего сверхъестественного, а вот же. В августе прокатились по окрестным полям и над деревней страшные смерчи, а затем полили дожди и рано ударил мороз — урожай убрать не успели. В итоге не выполнили план по заготовкам, и уже с зимы зачастили комиссии в село. Вскоре увезли председателя, поставили вместо него другого — приезжего из города, проштрафившегося бывшего партработника. В сельском хозяйстве он был не горазд, даже гордился этим — главное, говорил он, «инструктивная дисциплина» и порядок. Новый председатель не собирался долго задерживаться в деревне: нужно было лишь отсидеться, пока грешки в городе забудутся. С его приходом тех, кто не вступил в колхоз, перестали наделять покосами, запретили продавать им зерно. Ну а потом, видя, что единоличники не сдаются, провели то самое первое раскулачивание, когда увезли родителей Евсеева.
И не только деревенское хозяйство стало худым, но и переменились постепенно сами люди. Да и природа вокруг, кажется, переменилась: перестали родиться пшеница и рожь, остались только ячмень да овес, стало слякотнее и воздух как будто стал гуще, появился запах не запах, но повисло что-то болотное, тяжелое; зато веселиться стали даже больше и как-то отчаяннее, точно пьяные.
— ...Лучше расскажи, как ты? — вывела его из задумчивости тетя Люба. — Как жена, как дети?
— Да я не женат...
— Чего так?
— Не сложилось как-то... Негодный я, видно, для семейной жизни.
— У тебя же была подружка в деревне. Как ее звали?.. Имя-то я не помню уже, а прозвище Пчелка. Запало. Говорили, ее пчелы не трогают. Пчелиная царица...
Евсеев не без тайного удовольствия представил Галку царицей, с короной на голове и, как положено, в широком пышном платье, — таких рисовали в книгах со сказками.
— А может, она заговорами от укусов спасалась? Даром, что ли, темнобровая, — улыбнулась тетя Люба.
— Ну вы и скажете, тетя Люба! Она крестик носила...
Евсееву было приятно слышать и говорить о Галчонке. Он мог бы и больше рассказать о ней и сам готов был слушать даже нелепости про заговоры — все что угодно. Но сейчас это ему показалось неуместным: он же пришел, можно сказать, на поминки человека — как говорить с его матерью о каких-то отношениях в далеком прошлом, не имеющих к сегодняшнему событию никакого касательства?
— Да чего там, я же не бывал в деревне с тех пор, как нас увезли.
— А чего ж ты не написал ей? Чай, ждала?
— Может, и ждала. Но чего хорошего ей можно ждать от переписки со ссыльным? Лучше уж не подставлять человека под монастырь, чего доброго, еще и ее забрали бы.
В словах Евсеева была правда, но не вся. Он не написал еще и потому, что не знал, о чем писать. «Кто я, кем стал здесь, в Сибири? — спрашивал он себя все время, пока жил в Андреевке. — Простой скотник на ферме, пораженец без будущего, без собственного дома, без рубля за душой». Они вдвоем с сестрой снимали комнату в доме у местной старухи. Когда началась война, он подумал было, что, если Галя еще свободна, съездит на Вагу. Даже написал ей письмо. Но ответа не было. Может, не дошло послание, а может, не захотела ответить. Ведь столько лет прошло — не шутка.
За окном послышалось разноголосое мычанье коров.
— Ой, — взметнулась тетя Люба, — мне ведь Дуньку надо завести! Ты посиди тут, я поставлю ее в стайку и вернусь...
Евсеев остался один. Мысли разбрелись в разные стороны, словно в поисках уголков, где можно отдохнуть после странного разговора, начавшегося тяжелым рассказом о смерти Фильки, а закончившегося Галчонком. Он рассеянно огляделся в избе. Все выскоблено, выметено, словно в горнице одинокой монахини. На стене тикали ходики с гирями, над циферблатом красовались наивно перерисованные медведи из шишкинского «Утра в сосновом лесу». Еще одни часы-будильник стояли на столе. «Зачем вообще в деревне часы, когда есть восходы и закаты, утренние петухи, корова, которая приходит в одно и то же время? — подумал Евсеев. — Тик-так... Какое отношение отсчет часов и минут на ходиках имеет к настоящему времени, по которому живут тут люди?..»
Тети Любы все не было, и Евсеев решил выйти во двор. Сапоги в сенях надевать не стал, вышел босиком. Уже однорукий пастух прогнал мимо стадо и оно скрылось в дальней стороне поселка, но еще доносились оттуда щелканье хлыста, невнятная ругань пастуха и нестройное мычание коров. Вдруг из-за домов вынырнула со своей холмогоркой тетя Люба.
— Не завернула моя Дунька сегодня во двор, а раньше сама в калитку заходила, — сказала она и похлопала буренку по измазанному в грязи боку. — Будто почуяла, что у нас гость, и испугалась. Помыть вот еще надо...
Дунька совсем близко подошла к Евсееву, опершемуся о березу у забора, и дохнула на него — от такого родного молочного запаха сердце у Евсеева сладко сжалось. Он погладил корову по влажной шершавой морде, почесал лоб, подержал за рог. Холмогорка покорно стояла рядом, взмаргивая. Евсеев невольно залюбовался: «Какие огромные белые ресницы и голубые глаза...» Из туманной глубины памяти опять выплыл образ Галчонка — ярко-голубые глаза под длинными ресницами. Тут Дунька повернула голову — и Евсеев вздрогнул от неожиданности, отпрянул, словно увидел дурной знак: правый глаз у коровы был карий.
— Она у нас смирная, не бойся, — сказала тетя Люба. — Сейчас надою молочка, попьешь парного.
Хозяйка увела Дуньку в стайку, а Евсеев сел на лавку перед палисадом и закурил. Вокруг продолжалась обычная деревенская жизнь, столь знакомая и родная ему. Еще вилась в воздухе пыль, поднятая стадом, но здесь, возле калитки, было уже спокойно, точно после вихря. Кедровка выклевывала жуков из навозных лепешек, кошка на верее7 внимательно наблюдала за щенком, с азартом валяющимся в пыли. Двое мальчишек у дома напротив усердно что-то мастерили из деревяшек. Евсеев откинулся, привалившись спиной к заборчику.
Береза в обхват, росшая рядом у забора, у земли была черная, с уродливыми темными наростами, с переродившейся бугристой, точно у осокоря, корой, узловатая; след от воткнутого топора, забитый зачем-то в ствол гвоздь, нарезанная уголком под березовый сок кора — рана, так до конца не зажившая с младых лет, — видно, здесь, на деревенской улице, ей, белокудрой, не так уж счастливо жилось. Но вверху, в голубом небосводе, качался такой же тонкий изящный белоснежный ствол, какой был у нее в молодые годы. Кисейные веточки с клейкими новорожденными листочками, пильчатые по краям, как молочные зубики у ребенка, — Евсеев мысленно увидел эти листочки и понял, что той, верхней, вышней, березе было никак не полвека, а, может быть, всего шестнадцать. И она напевала песню юности своими ветвями. Евсеев посмотрел на свои ступни, сбитые, с кривыми желтыми ногтями и въевшейся грязью, и снова перевел взгляд в небо: да, он часто чувствовал себя глубоким, уставшим стариком, но на самом деле где-то там, наверху, почти что в другом мире, он не таков. Где-то на самой верхушке, среди молодых веточек этой старой березы, там, где птицы щебечут своими неземными трелями и где веет ласковый ветер, — там его сердце вьет себе гнездо. Эта чаша жизни растет незаметно, былинка за былинкой, устилается мхом, готовится принять новую жизнь — и там будет жизнь!..
Евсеев опустил взгляд, вернулся с высоты снова на деревенскую улицу, но радость не уходила. Веселая, золотящаяся в вечернем солнце пыль и мягкий песочек между пальцев ног, доносящийся откуда-то глухой стук колуна, по-прежнему неподвижная, как памятник самой себе, кошка и заливисто-залихватские воробьи — это был уже совершенно другой мир, не тот, в котором он был еще полгода назад.
Откуда-то из-за угла вышагнул хмурый, начальственного вида мужичок с землистым лицом, в сапогах и телогрейке. Это был дядя Вася. Евсеев его сразу узнал, хотя с тех пор, когда их вместе везли сюда в столыпинском вагоне, а потом сгрузили на берегу реки, видел всего несколько раз, и то мельком. Дядя Вася его тоже узнал и махнул рукой: садись, дескать. Пожал руку, сам сел рядом и тоже закурил:
— На побывку?
Евсеев кивнул. Он не знал, как лучше: самому ли сказать о Филиппе или пусть тетя Люба скажет. Молча покурив, они направились в дом.
На столе в избе стояла глиняная крынка с молоком. Они с Василием сели напротив друг друга, посидели с минуту, как бы осваиваясь заново. Если по отношению к тете Любе Евсеев чувствовал себя кем-то вроде сына, то Василия он почему-то воспринимал как ровню, хоть тот и был старше лет на двадцать.
— Ну, рассказывай, какие вести принес, — сказал Василий. — Думаю, тебе есть что рассказать.
И Евсеев заново начал свой рассказ, как солдат рассказывает командиру хорошо разведанную диспозицию. По сути, он повторял то, что говорил и тете Любе, только уже без прежних эмоций. Про гибель Филиппа отложил на самый конец.
— ...Ведь и опыт, и инструкции учат — нельзя разводить костров! Ну уж ради такого случая можно было запалить бездымный костер на две ямы. Правда, от него какое тепло? А Филька весь промок и продрог за три дня лазаний по болотам. Думал, хоть погреется чуток возле углей.
— Ну хочется ведь, чтоб по-человечески все было... А надо не по-человечески, чтоб живым остаться, — согласился Василий. — В шестнадцатом году, в империалистическую, мы тоже как-то, помню, костер развели — думали, чего уж, от линии фронта далеко. А тут аэроплан налетел и на нас бомбу кинул.
— Да, вот с этим костром у меня проруха вышла. Так и бывает: ошибаются одни, а платят другие. Может, это родовое? Помнишь, когда нас кулачили в первый раз? Мать тогда задержала всех, пока собирала пожитки. Из-за этого их тогда с отцом и взяли...
В эту минуту хлопнула входная дверь и из-за занавески появилась тетя Люба.
— Какую весть-то нам Анисим принес про Филиппка нашего! — всхлипнула она. — Погиб ведь! Вот шапку евонную привез...
Она потянулась к божнице, куда на полочку уже успела положить пилотку.
Дядя Вася взял ее в руки, посмотрел, положил обратно — всё молча. Потом достал папиросу из портсигара и закурил прямо в доме. Пока он курил, глядя в окно, все ждали. Наконец Василий придавил окурок и тускло глянул на крынку:
— Убирай это, бабка! Неси что надо.
Через минуту тетя Люба вынесла из кута бутыль с мутной жидкостью и поставила на стол. Сходила за закуской: выставила вареную картошку, репу и квашеную капусту.
— Эх, не то... — Крякнув, Василий поднялся, отмахнул занавеску перед дверью и ушел в сени. Скоро вернулся, неся в руках поллитровку водки. Отковырнув сургуч, поставил на стол.
— Хранил ее, чтоб Филиппа встречать. Настоящая, не какой-нибудь «сучок». А теперь, раз такое дело... — Разлил в три стакана. — Помянем.
Выпили молча, не чокаясь.
— Хороша водка, — брякнул Евсеев, опрокинув стакан.
— Вечная память, — сказала тетя Люба, но сама, можно сказать, только понюхала. Поставила стакан, а потом незаметно слила обратно в бутылку.
Совсем не так представлял Евсеев поминальный тост о Филиппе. Казалось, строже будет, торжественнее даже. А тут как-то слишком по-простому, по-хозяйски. Как будто не смерть солдата встретили, а ноябрьскую годовщину. Но вообще-то зацепило его другое — догадка, что, случись погибнуть ему, даже таких поминок некому будет справить.
Евсеев стал тыкать вилкой в капусту.
— Ого, какие вилки-ложки! — сказал он, чтобы как-то развеять тяжелые свои мысли. — Из деревни привезли? В сельмаге, наверно, покупали? У моих родителей такие же были.
— Какой там сельмаг! У нас в деревне серебряные отродясь не продавали. — Василий взял вилку и внимательно осмотрел ее, словно увидел впервые. — Это городские приборы.
— А откуда они у вас?
— Так это ваши ложки-вилки и есть! Отец твой из города привез. Деньги-то у него водились. А когда ваш дом растаскивали, нам перепало.
Евсеев перестал есть и уставился на Василия.
— Что же ты, в самом деле?! — всплеснула руками тетя Люба.
— А то ты не знала, откуда они? — окоротил ее муж. — Балаган-то к чему устраивать.
Повисшее за столом тяжелое молчание прервал Евсеев.
— Да что теперь, и хорошо, что вы взяли! — с неестественной радостью произнес он. — Зато вот теперь вещи вам служат.
— Нехорошо это, чего уж говорить, — вздохнула тетя Люба. — Но вот так получилось. Когда народ бросился подчистую у вас дома все выгребать, я сказала Васе: «Не ходи, не по-человечески это». А он мне: «Я и не пойду. Только у меня уже вот что», — и показывает сверток. А в нем вот эти вилки-ложки и еще лампада серебряная. Но когда в вагоне нас сюда везли, мы ее на хлеб выменяли. Помнишь, в вагоне все ржаной каравай ели? Не помнишь, конечно. А это вот ваша лампада пригодилась.
— Ну и хорошо, — с облегчением сказал Евсеев, — послужила людям, может кому и жизнь спасла...
Василий мрачно стрельнул взглядом на хозяйку:
— Так-таки не знала ты, откуда этот сверток?! Забыла, что, когда я подписывал в правлении бумагу на раскулачивание Евсеевых, мне, как бригадиру, и пообещали эти проклятые вилки-ложки, да еще сватали все серебро, какое найдется! А другим, которые согласились подписать, кому одежду, кому упряжь посулили...
— Не помню... — тихо сказала тетя Люба.
— Вот такие вот дела, — после долгого молчания подтвердил Василий. — А потом, когда нас через три года кулачили, из нашего дома таким же макаром все высвистали любезные соседи. Ничего я не смог с собой взять, кроме мешка картошки и этого свертка... Думал, хоть продам. А кому продашь? Так они в свертке и пролежали три года, — мы этими приборами, считай, и не попользовались.
— Чем меньше вещей, тем вольнее живется... — задумчиво сказал Евсеев и добавил: — Вещи добра не приносят. Только лишний груз. В бою со станковым пулеметом ты для врага как живая мишень, а с ППШ как...
— Да все одно! — оборвал его Василий. — Если написано тебе на роду в окопе сдохнуть, то так тому и быть.
— Да я не о том! — в свою очередь прервал Василия Евсеев. — У меня в голове другой вопрос как гвоздь до сих пор: зачем мать начала всякие вещи в мешок укладывать, когда надо было бежать в лес что есть сил? Неуж не понимала, что это всего лишь вещи, бумага, дощечки, металл... Всего лишь предметы! А так, может, и спаслись бы. Ведь нас предупредили об аресте, хоть и незадолго. Правда, кто предупредил, не знаю.
— Да я же и предупредил. Кроме меня, только члены правления и знали, что за Евсеевым Николаем едут. Из города звонили, чтоб подводы обеспечили...
— Нет, Анисим, вещь вещи не ровня, тут совсем другое дело! — неожиданно горячо перебила тетя Люба. — Твоя мама ведь не пожитки собирала! Она иконы собирала и церковную утварь, у нее даже где-то Чаша в доме была припрятана, может до сих пор где-то лежит спрятанная... Это святые вещи, Божьи! Все в разных местах было распихано, чтоб если начнут обыскивать, то хоть что-то бы осталось. В сундуке на дне икону прятала. Знаю, еще в погребе, за притолокой в специальном месте, другую. Но все это не ее было, а храмовое. Когда церкву-то собрались разорять и иконы жечь, кто-то предупредил батюшку, вот он и стал разносить по прихожанам иконы, книги и священные предметы, чтоб спрятали. И у всех девок обещанье взял перед Богом, чтоб они сохранили всё и потом в церковь отдали, когда ее снова откроют. Он-то думал, что скоро все вернется, по-старому... Его через несколько дней увели. Слыхала я, что на Соловки отправили, но точно не знаю. Знамо только, что не вернулся. Хорошо хоть, семьи не было, монах.
Василий налил себе и Евсееву еще по полстакана. Видно, он не слушал жену, а продолжал думать о своем.
— Натура у человека такая — сволочная. Вот вроде и у меня все отобрали и в тмутаракань сослали, мол, подыхай. А вот развернуть бы назад и после всего, что было, снова бы крикнули: «Грабь! Забирай из дома у сосланного-арестованного что хочешь!» — думаешь, отказался бы я? Хрена с два! Да-а, свою-то настоящую волю никогда до конца не знаешь... — мрачно кончил Василий и махнул свой стакан.
— Что уж ты такое на себя наговариваешь? — осторожно вставила хозяйка.
— А что? Думаешь, мы какие-то особенные? Вот ты хоть книг своих божественных начиталась, а тоже меня зерно для скотины заставляешь воровать. Все люди одинаковые, бесово семя! Нет, человек — дрянь! — Разгоряченный Василий плюнул. — Только есть такие, которые это признают, а другие — отказываются. И не меняется к старости. Вернее, так: меняется, делается только хуже, скрытней. Вот даже, предположим, все бы у меня было, что надо для жизни, а не как сейчас. Пошел бы я красть, если б знал, что никто этого не узнает и мне ничего за это не будет? Я так думаю — стал бы! Особенно если за компанию.
— Да зачем же, если все есть?! — искренне удивилась тетя Люба.
— А низачем! Из озорства. Змея кусает не из сытости, а из лихости. Потому что азарт воровской уже в жилах бродит. — Василий вперился мутным взглядом в доску стола и помотал головой. — Даже жизнь изменить можно, а вот характер — нет. Если только под гнет положить, как в бочку, под камень. А гнет этот — страх.
— Что же это за страх такой должен быть? — спросил Евсеев не то Василия, не то самого себя. Он почему-то вспомнил, как среди постоянного, глубоко въевшегося страха на войне, существовавшего просто как фон, он испытывал порой такое глубокое сонное равнодушие к смерти, к жизни, ко всему, что с ним будет или чего не будет, что, казалось, мог встать и во весь рост по полю идти на пулеметы.
— Такой страх, когда знаешь, что за малейшую подлость заплатить придется. Что за все-все спрос будет. Вот тогда человеком остаешься. Да ведь еще и знать-то нужно точно, уверенным быть, что за все с тебя спросят! А если хотя бы маленькая щель будет, не сто, а, к примеру, девяносто девять? Хоть бы малейшая возможность заныкаться в нее и избежать расплаты? Да ведь подлец-то снова вернется, как пес на свою блевотину, потому что натура человеческая такая: будет он до последнего надеяться, что этот единственный ничтожный процент именно его и спасет от суда!
— Повинную голову сабля не сечет, — отделался Евсеев поговоркой и осушил свой стакан.
— Сечет, еще как сечет! Так-то, Анисим... Был у меня один сын, Филиппок, одна голова, а теперь вот усек ее Бог, единственного сына забрал. Вот тебе и расплата.
Они посидели еще молча. Хозяйка ушла из-за стола, тихо чем-то занималась за печью.
— Ладно, Анисим, давай-ка на боковую. Тебе рано завтра вставать?
— Рано. Мне на поезд надо успеть.
— Понятное дело. Ты только скажи мне вот что... Чего бы тебе хотелось сейчас?
— Поспать. А то от недосыпа аж глаза щиплет. Ну, может, еще в баньке бы попарился. Чтоб до костей пробрало...
— Будет тебе баня. А спать — постели ему, бабка, на печи, пусть погреется! — крикнул Василий.
Ночью Евсеев сквозь сон слышал, как дядя Вася вставал и уходил куда-то. Как потом оказалось, подтапливать баньку.
Под утро Евсеев крепко заснул, но Семенов-старший растолкал его:
— Поднимайся, все готово. Веник я запарил, похлестать тебя?
— Нет, я сам полегоньку.
— Ну и ладно, сам похвостаешься. Мыло на подоконнике, полотно в предбаннике... — Василий выжидательно смотрел на Анисима — вдруг еще что требуется? Чувствовалось, что ему хочется угодить гостю. — Идем, я тебя провожу. Ты это... не торопись. Я до станции тебе телегу организую, успеешь. Основательно пропарься, чтоб вся грязь из-под кожи вышла. Знаю, что это такое, по окопам шмырять.
В парной на Евсеева накатил глубокий кисловато-сладкий аромат хлеба — это Василий, должно быть, плеснул на каменку кваса. Евсеев поддал еще пара и распластался на полке́. Заметил: шибер8 на трубе дядя Вася не стал задвигать, чтоб не угарно было, но так жар быстро улетучивается — стало быть, топил он только для Евсеева. Потрескивали дрова в печи, потрескивали от жара бревна в стенах, и в теле его тоже словно что-то потрескивало — покалывало от жара то там, то тут, сладко ломило во всех членах. Он прижал щеку к горячему скобленому бревну: хорошо-то как! Вспомнил, как мечтал о баньке в леднике, где они замерзали вместе с Семеновым, как у него ломило там все тело, как будто в кости втыкали ледяные иголки...
Он пытался уловить что-то ускользающее: что-то изменилось, но что? Холод и жар. Баня и окоп... Нет, главное — это он сам. Его самость здесь стала другой. Прежде он постоянно бродил по границе гиблого мира, оттуда, как из адской пропасти, задувало смертельной стужей, обжигавшей спину. Страх, безразличие, копящаяся усталость и бесконечный недосып — все смешалось и влезло куда-то вглубь него. А в лицо накатывали время от времени теплые, но лишенные живых запахов волны из будущего — спасительного, победного, светлого, но непонятного, как бы пустого. И вот теперь он шагнул внутрь этого радостного мира, опасная граница осталась где-то позади, хоть, может, и ненадолго. Очищение от налипшего зла войны и въевшегося страха — главное, ради чего он здесь. Так он думал. И его будущее может быть не пустым и уже сейчас наполняется радостными пустяками и серьезными открытиями из прошлого, вроде того, о чем сегодня рассказала тетя Люба: о церковной утвари, из-за которой пострадала мать, о святых вещах. Все это было непривычным, новым, словно пахнувшая свежим лаком мебель в доме, таинственно-притягательным.
Потом, нахлеставшись веником, он сидел на крылечке бани и отлеплял березовые листочки от тела — над голой спиной курился пар и растворялся в прохладном воздухе зачинающегося утра, из-под неплотно прикрытой двери бани плавился жар, тянуло сырой землей и терпко-кислым запахом крапивы. Из-за далеких сопок занималась заря, а в небе холодился прозрачный бесплотный месяц; из оврага, где журчал ручей, в речную долину волнами вытекал туман и заволакивал заливные луга; а в водах Чулыма в этот час уже проснулась после своего короткого сна речная мелочь и навертывала круги на поверхности; туман уже почти упрятал от чужих глаз двух лошадей на лугу, прислонившихся головами друг к другу; на ветвях ольхи на склоне оврага чечевица испуганно спрашивала спросонья об одном и том же: «Что, не пойму, я видел?» — а пеночка по соседству бестолково, но по-курсантски с ударением отвечала: «Тивици-ци-ци, тилици-ци-ци!»
Евсеев с наслаждением закурил. Скоро в утреннем тумане утонули и сам Чулым, и долина реки — высоко в небе с одного ее края на другой перелетал одинокий аист, он то парил, царственно раскинув крылья, то взмахивал ими, как ангел, и взмывал вверх. Евсеев попытался глянуть на землю глазами этой птицы, ведь здесь, на крутом берегу, он был на той же примерно высоте, что и она: солнце совсем близко, за лентой горизонта расправляющее плечи и оттуда подсвечивающее редкие, почти бестелесные облака... Внезапно первые лучи из-за сопки устремились в долину и пронизали туман, превратив его в золотой клубящийся напиток. Евсеев вытянул перед собой руки и счастливо подумал наобум: «Вот это мои ладони...» Руки до и после запястья словно принадлежали разным людям: бурые растрескавшиеся кисти, похожие на землю, а что выше — там кожа тонкая, ближе к плечам все белее и мягче. Вот грубо заштопанная рана на животе — он хотел осторожно погладить ее ладонью, но задрал кожу, словно жесткой дерюгой, и снова вытянул руки перед собой.
«...В моих ладонях — весь этот блаженный мир, долина Чулыма: две округлые сопки по краям окоема — на северо-востоке и на юге, между этими возвышенностями лента реки — это срединная складка на ладони, которая еще называется линией жизни...» Евсеев опустил руки и попытался одним взглядом обнять весь простор перед собой. «Это же ладони Бога!» — вдруг догадался он. Это было потрясающее по сути, но нежное, тихое открытие, которое он только что сделал. И вот она, главная тайна: он, солдат, сидящий на берегу жизни, но не принадлежащий этой жизни, он всем своим существом, со всеми своими мыслями и надеждами, с прошлым и будущим, — в этих бережных ладонях.
Когда-нибудь он вернется к себе на Вагу, поставит дом над рекой и они с Галчонком будут сидеть вот так и смотреть, как неслышно поднимается отава, как сонные шмели вальяжно перелетают с цветка на цветок, как порхает бабочка-лимонница, к ней присоединяется другая и они начинают танцевать вместе, как летит-машет крыльями птица над рекой, но едва лишь перестает, как тут же начинает падать и так — то падая, то взмывая — преодолевает пространство долины. Эта мысль о доме над Вагой была еще более далека, чем мысль о войне, грохочущей в эти минуты где-то, чем мысль о победе, которую еще предстоит завоевать. Но ему вдруг стало ясно, что тот покой, которым веет от этой запредельной мысли, эти запахи от земли и шорохи из леса, веяние прохлады в лицо и лучи рассветного солнца — это и есть главное, ради чего стоит жить. И этот покой возможен, только когда всё и вся едино: и этот растворяющийся в небе месяц, и река в туманном молоке, и его остывающее после парной тело, и эта букашка, вспрыгнувшая ему на руку, и Галчонок в его смутной памяти, и молчаливая, похожая на монахиню суровая мать — когда все это вместе, видит, слышит, чувствует, знает, помнит друг о друге... Именно и только тогда это все едино, когда все это в нем.
Пока Василий набрасывал сено в телегу, тетя Люба обняла Евсеева:
— Будешь теперь нам сыночком, ты ведь сирота. Будем тебя ждать. И ты не забывай нас, пиши. И еще вот что... если сложится... попрошу тебя... — Она все никак не могла решиться. — Узнай, милок, где он похоронен, Филиппок мой. Бог даст, побываю на могилке. Ну а нет — так нет. Прости меня, старую, не знаю, что говорю... — все продолжала бормотать она, когда он уже стоял возле телеги, готовый запрыгнуть в нее.
— Ну, прощай! — Она перекрестила его и поклонилась.
Евсеев махнул рукой:
— Приеду! — и поклонился, наверно, первый раз в жизни.
До станции они доехали как раз к поезду.
Часть третья. 1944-й
Командир саперной роты старший лейтенант Евсеев возвращался в блиндаж довольный и, можно сказать, даже радостный, словно в предвкушении близкого торжественного акта. После нескольких дней жесткого недосыпа он едва останавливался где-то или успевал присесть, как немедленно глаза слипались и в мозгу начинали мельтешить сонные картинки: то мать от чего-то предостерегала его, то являлся Филька и начинал спорить...
Денек в начале лета 1944-го выдался замечательный: в далеком детстве Евсеева мама говорила про такую погоду «солнопёсливая», то есть понятно, что ласковая, — пригревало солнышко, веял ветерок, пронизанный душистыми ароматами июньских трав, по небу там и тут плыли маленькие облачка, чем-то напоминающие беззвучно запечатленные разрывы зенитных вспышек. Фронт двигался теперь на запад, и так получалось, что как раз по тем местам, где Евсеев воевал недолго в окружении, а потом партизанил в сорок первом. Немец особо обстрелами в последние дни не беспокоил, и стали, наконец, в достатке подвозить боеприпасы. Но главное, что грело его, — в кармане лежало только что полученное, неразвернутое еще письмо от тети Любы. Он специально отложил чтение, предвкушая, как в ближайшие несколько часов, перекусив, спокойно прочитает его и еще пару раз перечитает, а потом черкнет что-нибудь в ответ и завалится поспать.
Перед тем как занырнуть в блиндаж, он глянул на небо — за годы войны уже выработалась привычка неприятности ожидать не со спины, не под ногами, хотя он вот уже почти два года воевал в саперном подразделении, а сверху. Авиабомбы, мины, осколки — от этого горячего железа с небес народу гибло больше всего. Вот и сейчас вроде все было тихо, а большая стая черных птиц, похоже грачей, вдруг снялась с опушки леса и стала кружить над вытоптанным и изрытым гусеницами жнивьем. Евсеев вытолкал из блиндажа без дела зевавшего тут вояку, приехавшего из штаба дивизии в преддверии визита начальства, разложил на столе хлеб, вскрыл ножом банку американской тушенки и достал из-под нар припрятанную флягу со спиртом. Полная диспозиция...
Сделав пару глотков, Евсеев вынул из кармана треугольник и бережно развернул его. За два года, прошедшие с памятной поездки Евсеева на его новую сибирскую родину летом сорок второго, тетка написала ему несколько десятков писем — он привык и ждал их как свидания с родным человеком. А больше ему никто из родных не писал. Сестра, еще в начале войны направленная работать куда-то в госпиталь в Среднюю Азию, не проявилась ни разу, и он не знал даже, жива ли она. Слали весточки иногда фронтовые друзья из госпиталей, но это было не то — они больше спрашивали о делах в части, чем что-то рассказывали. Зато тетя Люба излагала все подробно, мелким почерком, но на одном листе у нее письмо, как правило, не помещалось, и она вкладывала в треугольник еще один, а то и два мелко исписанных тетрадных листа. Она подробно рассказывала о соседках, которых он знать не знал, о своем подворье, и он уже свыкся и даже ждал свежих новостей о том, благополучно ли отелилась Дунька, или об урожае картошки, словно сам ее сажал и окучивал. Вот и в этот раз она сначала расписала о слабом здоровье в последнее время сильно хворавшего дяди Васи и о прохудившейся крыше, которую некому поправить, потом о какой-то умершей соседке, коротко о себе, о скотине, о богатых укосах, ожидаемых нынче из-за дождей, и потом... У Евсеева запрыгали строчки перед глазами. Дальше было о том, что тетя Люба написала старой знакомой в их деревню, на Вагу, спросила, как там поживает народ, и получила ответ. «Дом ваш стоит, окна заколочены. Про мать и отца твоих ничего не знают. Между прочим спросила и про Пчелку, — писала тетя Люба. — Жива-здорова твоя подруга...» Тут Евсеев отложил письмо и в волнении глотнул еще спирта. Лег на нары, натолкав под голову травы потуже, и закрыл глаза. Он даже не предполагал, что эта новость так взволнует его. «Жива ли ты, Галчонок? — не раз Евсеев мысленно спрашивал все эти годы. — Может быть, тебя и нет уже, только в моем уме и сердце ты живая еще». И вот, наконец, пришел к нему ответ, когда не ждал.
Евсеев дрожащими руками снова развернул вложенный листок: «...сообщает она мне, что Галина робит в колхозе, зимой на лесоповале. Ездила два года назад рыть окопы под Москвой на три месяца, застудилась, потом болела, но теперь ожила. Вроде как дочка мелконькая есть, а муж погиб еще в 41-м. Голодают сильно. А так всё как прежде, только мужиков в деревне ни одного не осталось...»
Евсеев попытался представить Галю, на сей раз держащую за руку девчонку, как две капли похожую на нее, и стоящую у реки на тех самых мостках, где они когда-то вечером сидели вместе... Он видел их только сзади, но точно знал, что девочка рассказывает ей о чем-то своем, девчачьем, а Галчонок-мама стоит и молча улыбается.
Евсеев вскочил и сел на чурбак перед столом. Достал бумагу из своей полевой сумки и глубоко вздохнул. «Здравствуй, дорогая и любезная Галя! — написал он с ходу. — Пишет тебе это письмо Анисим Евсеев. Помнишь ли меня? А если не помнишь, то скажу, что мы с тобой вместе учились в школе, даже дружили. Мне написала о тебе в письме тетя Люба. Ее ты должна знать, потому что их с мужем Василием дом стоял напротив вашего. Теперь, после того как их выслали, они живут в Трудпоселке на сибирской реке Чулым... Два года назад летом я был у них в гостях и...» Евсеев скомкал лист. Получалось многословно и не о том. Он с досадой сощелкнул паучка, суетливо перебегавшего по столешнице. Достал другой лист и написал: «Здравствуй, Галина!» Отложил карандаш и задумался: «О чем писать? Не о прошедших же годах — тут целой тетради не хватит. О теперешнем своем положении? Но какой ей до этого интерес?..»
Так ничего и не надумав, Евсеев снова лег на тюфяк. «Не буду писать, — наконец решил он, покурив. — Надо самому ехать в деревню, посмотреть, что да как. Вот в ближайший же отпуск и поеду». Он еще раз перечитал письмо тети Любы и закрыл глаза. Где-то вдалеке бухали взрывы — за время, пока он находился в блиндаже, мины как будто стали класть ближе. Прислушался: теперь это были уже прилеты не только из минометов, били из гаубиц. «Странно, — подумал Евсеев, — если готовят наступление, то зачем по тылам лупят? Может, “рама” где-то летает, нас заметила? Разведка докладывала обстановку, что все должно быть тихо, передвижений у противника не замечено». Евсеев решил, что это обычная беспокоящая стрельба, к которой он давно привык, как к жужжанию насекомых: если не жалят, спать можно спокойно.
Он лег, но едва отвернулся к стенке, как тут же перед глазами поплыли сонные картины. Вот он идет по бескрайнему полю спелой ржи — и вдруг навстречу ему мама, за руку держащая Галю. «Вот познакомься, это Пчелка», — говорит мама голосом тети Любы. «А мы уже знакомы», — отвечает Евсеев. Тут появляется Филька верхом на статном скакуне. Он похлопывает жеребца по шее: «Смотри, Буян нашелся!» — и протягивает руку Галине. Она садится на коня рядом с ним. «Вы куда?» — окликает их Евсеев. «Домой», — отвечает Семенов. «Ты разве не умер?!» — удивляется Евсеев, но ответа нет. Мама берет коня за повод, ветерок качает колосья и васильки, развевает гриву, играет в темных прядях Галчонка. Все втроем они медленно уходят. «Я с вами!» — кричит он им вслед. Мама оборачивается и хочет что-то ответить ему... Но тут сон прервался, потому что в блиндаж кто-то вошел.
— Товарищ старший техник-лейтенант!
— Чего тебе? — не поворачиваясь, ответил Евсеев и посмотрел на часы: он спал всего минут пять. — Поспать не даешь!
Это был сержант Буряк из третьего взвода.
— У нас тут ЧП! — бойко затараторил Буряк. — Вот я привел вам его!
— Кого «его»? — буркнул Евсеев, вставая.
Сержант стоял в проеме тамбура и крепко сжимал запястье молодого бойца. Суть дела, как оказалось, заключалась в том, что этот паренек нашел на болоте упавший «Юнкерс» и у мертвого летчика взял все, что только смог. Основательно насобирав себе сувениров, спрятать не успел — кто-то донес.
Буряк доложил Евсееву о происшествии и, закончив доклад хлестким: «Мародерствовал! Такие, как он, позорят Красную армию! Его под суд надо...» — подтолкнул молодого в спину и положил на стол тряпицу с «добычей» юнца. Евсеев спросонья досадливо уставился на молодого воина:
— Ты кто?
— Рядовой Семенов!
— Семенов?
— Так точно.
— Хм... — Евсеев внимательно оглядел его.
Нет, внешне он был совершенно не похож на Фильку. Тоже совсем молодой, но только уж совсем-совсем: худой и голенастый, еще не набравший мужицкой плотности, да и по движениям, по голосу еще ребенок. Но что же зацепило в его облике? Ага, вот что: этот взгляд немного напуганного, но самоуверенного волчонка. «Вот взгляд-то у него, как у Фильки», — понял Евсеев.
Он развернул тряпку с добычей рядового Семенова, и из нее вывалились наручные часы, складной нож, портсигар...
— Зачем снял часы? Что за... что за барахольство? — Евсеев нарочно не стал называть произошедшее страшным словом «мародерство», за которым неизбежно следовало признание преступления, а значит, требовалось наказание.
— Свои разбил, товарищ капитан! — ответил Семенов бодрячески, но дрожащим голосом. — Нам, саперам, они очень даже нужны.
— Под суд захотел? — раздраженно рявкнул Евсеев, особенно рассердившись на то, что провинившийся услужливо и сознательно «повысил» его в звании. — Со следователем не встречался? К штрафникам захотел?
Евсеев говорил все громче, а рядовой все больше вжимал голову в плечи.
— Ладно, Буряк, ты ступай, я без тебя разберусь. — Евсеев махнул рукой конвоиру. Тот взял под козырек и уже собирался было идти, но Евсеев остановил его: — И вот что. Если кто узнает... за срыв задания по доставке мин на прошлой неделе под трибунал пойдешь ты. Все понятно?
Буряк испуганно-обиженно кивнул. Несколько дней назад у него заглох мотор на его ЗИС-6, загруженном противотанковыми минами, он так и не доехал до позиций — пришлось перегружать боеприпасы на другую машину.
— Можно идти?
— Иди, — хмуро сказал Евсеев и повернулся к Семенову. Тот стоял в неподвижном окаменении. — Откуда ты такой взялся? Какого года рождения?
— Двадцать пятого. Я с запасного полка, из Вологды...
— Комсомолец?
— Так точно.
— Что ж ты, комсомолец, земляков-вологжан позоришь? У меня тут их много служит...
— Вообще-то я не из Вологды, я с Архангельской области.
«Ого!» — подумал Евсеев, но остановил себя, переспрашивать-уточнять не стал. Он и без уточнений знал, что именно через такие вот случайные совпадения Бог разговаривает с человеком. Теперь важнее было, что же Он хочет ему сказать. А для этого география была уже не нужна.
За этими мыслями раздражение из-за того, что ему так и не дали поспать, развеялось.
Среди всякой мелочи рядом с костяным мундштуком лежал нательный крестик.
— А крест-то зачем с него снял? — уже спокойнее спросил Евсеев.
Паренек потупил взгляд:
— Я не снимал, он в портсигаре лежал.
Евсеев, расхаживавший между столом и нарами, заложив за спину руки, остановился и прислушался. Где-то невдалеке раздался взрыв, так что в блиндаже все затряслось. Евсеев взял крестик и стал разглядывать: простенький, по-видимому медный, как у православных, только на обороте ничего не было изображено и написано.
Евсеев снова замер и прислушался. Донесся долгий, тягучий, все усиливающийся вой...
Мгновение спустя крыша блиндажа рухнула и внутрь влетел снаряд от гаубицы — он прошел по наклонной, разнес вдребезги стойку в тамбуре и, прошив нары, на которых только что лежал Евсеев, воткнулся в грунт, не разорвавшись. Бревна настила жирно захрустели, сверху посыпалась земля, и накат стал оседать. Евсеев, краем глаза заметив, что одно из бревен придавило ноги упавшего Семенова, метнулся к стене, но запнулся и увернуться не смог — еще одно бревно обвалилось точно на него... Дальше была черная яма.
Очнулся он наполовину заваленный песком и обломками бревен. В крыше штабного укрытия зияла дыра. Топчан, на котором он недавно лежал, был засыпан землей. Вокруг суетились солдаты с лопатами. Неразорвавшийся снаряд, по-видимому, уже вынесли. Семенова тоже рядом не было. Евсеева осторожно обкапывал саперной лопаткой какой-то солдат. Он по чуть-чуть как будто скалывал скорлупу вокруг него — и внутри этой тяжелой массы, сковывающей дыхание и малейшее движение, у Евсеева болело все: ноги, спина, особенно грудь. Запечатанный грунтом, оглушенный, он, словно только что родившийся цыпленок, выбирался из яйца на свет божий. Сознание понемногу очищалось. Когда он смог наконец выдернуть руки из земли, разжал ладонь: в ней оказался зажат крестик. Не сразу вспомнил, откуда он взялся. Спросил:
— Что там с Семеновым?
— Ничего страшного, — ответил сержант. — Перелом обеих ног, его уже отправили в медсанбат.
Вечером приехал полковник из штаба готовить визит генерала на передовую. Ему было под шестьдесят, его тщательнейше выбритые щеки отдавали синевой, как и его холодно блестевшие сапоги. Но полковник оказался не привычным злобным матерщинником-дровосеком, от которого щепки разлетаются в разные стороны, — он матерился на удивление мало, зорко приметил кучу всяких недочетов, а когда увидел хранящиеся рядом мины и химические запалы — что, конечно, не дело, — то ругаться не стал, а подозвал командира батальона и задал вопрос из бородатой шутки о саперах:
— Чем отличается сапер от десантника?
— Летают в противоположном направлении, — испуганно, без улыбки ответил капитан, не зная, чего ожидать дальше.
— Вот и ты у меня полетишь, если такое еще раз увижу, — с усмешкой сказал полковник.
Обойдя расположение, он вызвал к себе Евсеева и стал спрашивать о его самочувствии. Евсеев старался отшучиваться, но совсем не морщиться от боли в груди не получалось. Это не ушло от внимания начальника. Вызванный медик, когда ему полковник дал слово, рассказал о подозрении на перелом ребер и пожаловался, что Евсеев отказывается ехать в госпиталь. Евсеев попробовал снова пошутить, но полковник оборвал его:
— Шутки тут неуместны. Завтра едете со мной на рентген в эвакогоспиталь.
На следующий день по дороге в штаб дивизии Евсеев живо общался с полковником. Говорили о минно-взрывном деле, в котором полковник был не очень силен, так как лишь недавно его перевели в инженерные войска из радийщиков. Узнав об этом, Евсеев начал рассказывать о дистанционных радиоминах Ф-10, с которыми их учили управляться еще в партизанском отряде в сорок первом.
— Там восьмиламповые блоки могут принимать радиосигнал и дают электроимпульс на три детонатора — отличная штука! Вот только в деле мы ее не использовали ни разу, так и остались они у нас в схроне лежать прикопанными. Антенны тоже, хороший провод немецкий, довоенный еще, аккумуляторы на двенадцать вольт. Конечно, батареи уже сели, но, в принципе, могут быть еще годными, — рассуждал Евсеев безо всякой задней мысли, — если только не испортились от влаги или всё не разграбили.
Полковник неожиданно заинтересовался и стал расспрашивать подробнее — оказалось, что радиоуправляемые мины он только на учебных плакатах видел. Закончился разговор тем, что Евсеев предложил откомандировать его посмотреть этот схрон — вдруг его не тронули? Тем более что до тех мест, где они когда-то партизанили, было немногим более ста километров.
— Если что-то уцелело, я дам координаты, чтоб приехали саперы и забрали всё.
Полковник вроде согласился сначала, но потом сказал:
— Отставить! А как же твои ребра? Нет, не пойдет...
— Жалко ведь, пропадет добро. Опять же — а если кто из диверсантов найдет эти мины и использует их против наших же объектов?
Полковник помедлил, глядя на него, — в этот момент Евсеев подумал, что как раз тут и должно оно решиться. Что именно? Но этого он и сам не знал. Что-то важное.
— Ладно, — согласился все-таки полковник, — валяй. Если что накопаешь, знаешь, где меня найти. И это... после госпиталя подпишу тебе отпуск на четырнадцать дней. Продышишься хоть...
Евсеев не сомневался, что найдет свой будан возле Чертова болота, и был уверен, что что-то в нем наверняка осталось — не очень-то просто туда попасть. Неслучайно ведь разгромили фрицы его из артиллерии и минометов, но не захватили. Значит, не смогли пройти через гать... Но мысли у Евсеева уже стремились дальше: он понял, что судьба предоставила ему редкую возможность снова побывать в тех местах, где он потерял Фильку Семенова. «Я же обещал тете Любе узнать место, где похоронен ее сын, — и вот он, случай! А как я узнаю про могилу? Лишь бы только тот Мыкола Пинчук еще был жив. Да что с ним сделается, сидит дома, сволочь. А если мобилизовали? Тогда жена должна знать... Или дочь. Главное, чтоб не разбомбили их... Вот надо же, дожил — приходится заботиться о гитлеровских прихвостнях!..»
Так думал Евсеев, подпрыгивая на ямах в кузове грузовика с солдатами. Это был уже третий грузовик, который ему пришлось сменить, — на каждом ему удавалось попутно проехать лишь небольшой отрезок пути. Оставалось совсем недалеко, километров пятнадцать, о нормальной дороге не приходилось даже мечтать — в грузовике всех трясло, словно мелочь в кармане на бегу. Евсеев предпочел спрыгнуть и дальше идти пешком.
Километров через пять он вышел к реке — той самой, по которой они с Филькой сплавлялись на лодке без весел. Теперь, летом, ее было не узнать: если б не болотистые подступы, ее, обмелевшую, можно было перейти вброд. Евсеев пошел по едва заметной тропке вдоль берега. Рыжие карандаши сосен местами подступали к урезу воды, и под ногами мягко хрустело волнистое одеяло беломошника — ничего этого он не замечал, когда они пробирались с Семеновым по другому берегу. Кажется, вон там, продравшись через ивняк, они наткнулись на лодку. Дальше плыли по течению...
Забрел в березовую рощу, где белые стволы стояли под наклоном в сторону реки, похожие на стрелы с опереньем, вонзившиеся в землю после обстрела с того берега. И эту рощу он почему-то не запомнил, хотя, судя по всему, деревня была уже совсем рядом. «Что-то стал задыхаться», — отметил про себя Евсеев и остановился, прислонившись лбом к стволу березы.
...Надтреснутые ребра снова заныли. Он двинулся дальше. Дошел до того места у реки, где вдвоем с Семеновым они прятались под водой. Теперь здесь река обмелела так, что было видно дно, а желтые кубышки на своих длинных шеях высоко поднялись над водой. Все было не так, как осенью сорок первого.
Здесь, на берегу, Евсеев лег на спину. Нужно было, чтобы притупилась боль в груди. Но главное — это было место, где он должен был помянуть Фильку. Именно тут лежал замерзший, бесчувственный Семенов, а Евсеев держал его голову на своих коленях, пытался растормошить. В этом месте — теперь он это понимал — всего за несколько часов до гибели Семенов стал его братом, нет, даже больше — сыном. И с той минуты, когда оба они были так близко от смерти, их не могли уже разделить ни возраст, ни язвительные шуточки. «Теперь я — Семенов», — подумал он.
Евсеев повернулся на бок, расстегнул гимнастерку. Из-под нее выглянуло тело, все в синяках и ссадинах после того, как его, полуживого, откопали в обвалившемся блиндаже. Он подумал, что в его возрасте в деревне у мужиков уже были взрослые сыновья и, быть может, именно поэтому как сына воспринял он Фильку — отцовский инстинкт. Непослушного волчонка, отстаивающего на каждом шагу право на самостоятельность, но в глубине души любящего и готового подражать матерому и учиться у него жизни.
Что-то шерохнулось поблизости в кустах. Евсеев вскинул глаза и опытным взглядом охотника с юности увидел притаившегося за кустом русака. Тот сидел, шевеля носом и глядя на Евсеева, и они на мгновение встретились взглядами. Или это только так показалось ему. В следующее мгновение заяц отскочил назад, не поворачиваясь, словно на пружинке, и исчез.
Он прикинул, успел ли бы вытащить двустволку на зайца, если бы она у него была. Пожалуй, нет. Все-таки охота — это другое. В ней есть правильность, потому что человек становится частью этого лесного мира. Здесь, в лесу, всюду опасность, но нет врагов. Волк зайцу не враг, сова не мстит и не мучает мышь. Между ними нет ненависти. Война — вот безразборчивое убийство вслепую, основанное на ненависти. И не потому, что люди переполнены злом, а потому, что без ненависти машина войны не работает. Это ее топливо. Вспомнилась ему история с деревенским кузнецом Демидом, потерявшим своего жеребца. Единственный за много лет удавленник, а зла, которое он принес своей смертью, хватило на всю деревню на годы. А сколько ж зла надо людям произвести, чтоб смертоносным пеплом, как из вулкана, засыпало всю Европу.
Евсеев закурил и задумался без мыслей. На другой стороне реки дважды прокуковала кукушка. Здесь, вдалеке от фронта, он еще чувствовал войну, она была во всем, что он с собой нес: в черноте под его ногтями, в ссадинах под его гимнастеркой, на сбитых каблуках его обуви, — и потому здесь еще не было мира. Но снова, как тогда, незабвенным утром у бани, чувствовал он, как волны мира — пока еще слабого, голодного, усталого — накатывают откуда-то с востока и несут покой. Эти прикосновения покоя кутали его в сон — не окопный, когда проваливаешься в яму в полном бесчувствии или же, наоборот, как бы висишь в зыбком настороженном забытье, — нет, его сносило в тот живительный сон, когда словно подключаешься к подземным целебным родникам, чтобы проснуться обновленным и свежим. Но тут в кустах рядом вдруг поползень издал три сигнальных крика... Евсеев вышел из оцепенения и открыл глаза. «Хватит уже нежиться!» — одернул он себя, встал и направился к деревне.
Вот и тот злополучный дом на окраине села показался. Евсеев подошел к погребу на краю огорода, где они с Семеновым мучились на каменном полу в ожидании сумерек. Подойдя к леднику, он дернул за дверцу — она оказалась заперта. Заглянул в щель: весь погреб был заставлен бочками не то с рыбой, не то с кислой капустой, потому что пахло оттуда тем и другим одновременно.
В душе у Евсеева появилось какое-то неопределенное беспокойство — в предвкушении ли встречи с врагом Мыколой, которого он теперь не опасался, напротив, легко мог представить выражение лица вражины, когда тот увидит его в офицерском кителе... Нет, не только это беспокоило его. Подбираясь к деревне, он все чаще трогал кобуру пистолета на боку — мысль о расплате за Фильку сильнее и сильнее овладевала им. Он хорошо запомнил тот незавершенный спор с тетей Любой в деревне — о мести, возмездии и прощении. Помнил ее просьбу не трогать изверга. Но то были просто рассуждения, не привязанные к жизни, — а жизнь повернулась так, что ему представился уникальный шанс расплатиться за ее сына, и другого не будет. Два года жизнь текла так, что некогда было особенно и вспоминать прошлое — а всё вперед и пригнувшись: приказ получил, приказ отдал... И поэтому в какое-то время он даже начал думать, что старое надо просто оставить; то, что прожито, ушло, а потому и забыто, в конце концов его душа не безразмерна, чтобы все хранить, а жить надо настоящим и будущим. Но прошлое, оказалось, никуда не делось, оно только ушло из его блиндажа в какие-то боковые окопы...
Евсеев поднялся на крыльцо и прошел в сени. Было тихо, как и в тот октябрьский вечер сорок первого. Выдохнув, он толкнул дверь, нагнулся и переступил порог горницы. Там было пусто, слабый свет виднелся лишь в дальней комнате, и оттуда доносились женский голос и плач ребенка. Заглянув в комнату, он увидел ту самую женщину, что и в прошлый раз, — только, кажется, она сильно постарела. Она качала в люльке младенца и что-то сонно напевала себе под нос. Увидев темную фигуру, она вздрогнула всем телом и встала.
— Вам кого? — испуганно спросила она.
— Здравствуйте, Олеся. — Евсеев внимательно посмотрел на нее. Он вспомнил эти ее кошачьи черты лица. — Мне нужен Мыкола Пинчук. Где он?
— Он скоро должен прийти. А вы кто?
Евсеев не ответил. Он видел, что она его не узнала, значит, можно сказать что угодно. Но в самом деле, кто он? Представитель правосудия? Ангел мщения?
Отвечать он не стал, сказал только:
— Я здесь подожду. Занимайтесь своими делами.
Сел на стул, а женщина продолжила нянькаться с ребенком — но даже по ее спине Евсееву было ясно, как сильно она напугана. Почувствовав этот ее страх, младенец залился ревом. Евсеев вышел в кухню и сел за стол, тот самый, за которым они вместе с Семеновым сидели напротив Мыколы. Ничего не изменилось: только икон в углу стало, кажется, меньше и появилась трещина на беленой печи. Успокоив ребенка, женщина вошла в кухню и стала мыть посуду в тазике, время от времени косясь на Евсеева.
Наконец за дверью послышались шаги. Олеся вскинула голову и хотела было что-то сказать, но Евсеев строго приложил палец к губам, и она села на лавку, не домыв тарелки и бессильно уронив руки. Пригнувшись, в дверь вместе с запахом реки и рыбы ввалился Мыкола — стрельнул взглядом в сторону Евсеева: узнал его и сразу все понял. Сел на то самое место на противоположном конце стола, где сидел и в прошлый раз. Упер руки в колени, готовый к тому, что сейчас последует команда на выход.
— Пойди займись ребенком, — кивнул он жене, и она вышла.
Евсеев мысленно подивился: говорил Мыкола в этот раз почти на чистом русском, без «словечек» — и когда успел научиться?
— Убивать пришел? — глухо сказал он, и Евсееву показалось, будто из его рта вырвался серый клуб пыли.
— Руки на стол, чтоб я их видел, — спокойно произнес Евсеев, достал наган и положил на край стола. — Расстрелять тебя пришел, Мыкола Пинчук, за предательство. Но сначала буду судить.
Мыкола положил руки на стол. Они сильно дрожали, на его лице красными пятнами проступил испуг.
— То ж не я стрелял, это они...
— И кто это «они»? — уточнил Евсеев ровным голосом, хотя сдержать себя ему стоило больших усилий. При виде убийцы первым желанием у него было максимально медленно, пулю за пулей выпустить в него всю обойму: сначала в ноги, чтобы он заверещал, как хряк, потом в живот или чуть ниже и, наконец, в лоб... Но волна схлынула, и теперь, глядя на перепуганного до смерти бугая, он чувствовал только брезгливость и желание поскорее закончить дело. Вот только каким должно быть это дело, он для себя до сих пор не решил.
— Та то ж у нас в селе наши стояли, бульбовцы, хохлы, они ж за нас... — дрожащим голосом лепетал Мыкола.
— Ты про этих фашистских прихвостней? Привечал, значит, их... — Евсеев хотел было что-то сказать про бульбовцев, но только бессильно выдохнул, увидев, что Мыкола Пинчук от страха ничего не поймет, да и, пожалуй, не услышит даже. С бульбовцами их отряду приходилось встречаться в Полесье, как-то раз даже стояли на разных берегах реки, но в перестрелку вступать не стали. Запомнил, как они пели у костра — намеренно громко, чтоб их слышали партизаны: «Гей-гей, час приходит, будем бити москалёв».
— Я готов ответить по всей строгости закона. — Мыкола опустил голову и всхлипнул.
И эти нелепые в их ситуации слова, и детская интонация, с которой это было сказано, так плохо совмещались с его грузной мужицкой фигурой, что Евсеев хмыкнул:
— А в чем строгость закона военного времени, ты знаешь, ёж твою медь? Это означает к стенке! — Евсеев положил руку на пистолет.
— Не убивайте мене...
— На фрицев работал, убивал! А тебя, значит, не убивать? В Бога, говоришь, веруешь? — Евсеев глянул на божницу. — А про Иуду слыхал?
— Слыхал. Та я не Иуда, я — Мыкола...
— Доставай свою мосинку.
— У мене не мосинка, у мене берданка переробленная. Еще перед войной купил.
— Вытаскивай!
Наставив на Пинчука пистолет, Евсеев проводил его в соседнюю комнату, где тот залез в подпол и протянул оттуда берданку.
— Патроны давай!
— Патронов немае...
— Вылезай!
Евсеев осмотрел несмазанное ружье с перепаянным прицелом: видно было, что из него не стреляли много лет. «Может, действительно, не он стрелял?» — подумал Евсеев. Но ведь он же явственно слышал тогда выстрел не этой древней берданки, а мосинки... Он вынул из ружья затвор и положил в карман, само ружье поставил в угол возле печи. Они снова сели за стол друг напротив друга.
— Рассказывай, где Фильку похоронили, — сказал Евсеев и поправился: — Рядового Семенова.
— Шо?
Евсеев выматерился и снова наставил на хозяина пистолет:
— Мне повторить?
Мыкола точно очнулся, суетливо забормотал:
— Так это, на могилки увезли, там закопали... Около самого яра. Снаружи забора. — Он испуганно покосился на Евсеева. — Я не маю, мне где сказали, там и выкопал. Я ж не сам, мене заставили.
— Кто тебя заставил?
— Так они же... Я могу показать место, если хотите. Вы сами не найдете, потому что никакого знака там не поставили. А я знаю, тому що сам копал.
Евсеев еще раз подумал, что вот удобный случай: пойти вместе на кладбище, там его шлепнуть и оставить на съедение лисам... Искушение было слишком велико, а дело столь простое, что в этом направлении после паузы Евсеев запретил себе думать.
— Возьми лист и рисуй схему, — сказал Евсеев и поморщился — видно, от волнения давали о себе знать потрескавшиеся ребра.
— Мамка! — позвал Мыкола. — Неси карандаш и листочек!
Жена зашла через минуту с окаменевшим лицом, боком, в одной руке держа младенца, в другой зажав школьную тетрадку с вложенным в нее карандашом. Она слышала их разговор и все поняла.
— Иди-иди! — вытолкал ее муж и, послюнявив химический карандаш, принялся чертить что-то на листке.
В этот момент неожиданно за спиной у Евсеева открылась дверь. Он резко обернулся: в проеме дверей, не решаясь перешагнуть, остановилась девочка, по-видимому дочь Мыколы. Неуклюжий подросток с очень худыми ногами и рябым от веснушек лицом.
— Зачинай дверь! — прикрикнул на нее отец и продолжил рисовать с усердием, высунув кончик языка, испачканного синим карандашом.
Дочь медленно прикрыла за собой дверь, села на порог, положила подбородок на острые коленки и зажмурилась.
— Иди к матери, — тихо сказал ей Евсеев, но она то ли не услышала, то ли ждала команды отца — осталась сидеть неподвижно.
Наконец Мыкола справился с заданием, придвинул листок Евсееву через стол и указал пальцем:
— Где крестик, там и заховали. Там неглубоко. Рядом я рисочку провел, то забор, а где заштриховано — там яр.
Евсеев глянул мельком и понял, что овраг тот самый, по которому он убегал тогда, осенью сорок первого. Отодвинув лист, он уставился на доски стола, не двигаясь, немотствуя, будто желая уловить в этой тишине, что кто-то нашепчет ему, как поступить.
Разбираться дальше и тем более выносить приговор ему хотелось меньше всего: «Какой я, к дьяволу, судья? Я — солдат. Я выполняю приказы. Приказа расстрелять этого паскудника не было. И потом, что я понимаю в жизни этих людей?.. За убийство надо платить смертью. А если в самом деле не он? По масленым глазам-щелкам видно, что врет, ну а вдруг?.. — Не без удивления Евсеев снова поймал себя на том, что скорее готов быть не обвинителем, а заступником. — Он хочет жить и защищается, как может. Создал мирок, в котором нет ни войны, ни смерти. Собирает пищу, потомство плодит... Так что же с ним делать?..»
Но на самом деле он уже все решил.
— Не буду я тебя расстреливать, — сказал Евсеев. — Руки об тебя марать не хочу. По твоей шкуре пусть разбирается трибунал. И если ты хочешь, чтоб тебе послабление сделали, завтра же сам пойдешь в комендатуру и все расскажешь. Ясно?!
— Я все зразумел, как скажете, обязательно пойду. — Глаза у Мыколы заблестели: он понял, что расстрела на месте удалось избежать.
Евсеев махнул устало рукой, посмотрел в окно и подумал: «Что толку говорить. Такие выродки есть и будут всегда. И с ними рядом придется как-то жить и после войны».
Он обернулся к сидевшей на пороге девочке:
— Тебя как зовут?
Она вопросительно посмотрела на отца. Он кивнул ей, и дочка ответила чуть слышно:
— Алена...
Евсеев хотел было спросить ее, в самом ли деле она бегала в тот вечер по указке отца, но передумал: «Разве она помнит, а если и помнит, какая разница? Фильку не вернешь. Пусть с этим суд разбирается, а я что хотел — узнал. Эту схему прямо и вложу в письмо тете Любе, пусть у нее будет». Он согнул листок с планом захоронения, засунул его во внутренний карман и там наткнулся на что-то металлическое: это был тот самый крестик, который он непроизвольно забрал у Семенова, — потрогал его пальцами и оставил на месте, в глубине кармана.
Евсеев резко встал.
— Так вас проводить? — услужливо предложил Мыкола, увидев, что Евсеев собрался уходить. — Можа, повечеряете? У меня рыба есть...
Евсеев свирепо глянул на него и заметил, что лицо Мыколы прямо на глазах стало покрываться красными пятнами. Тот сам почувствовал это, и оттого глаза его сделались злыми.
Но Евсеев не испытывал уже больше к нему никаких чувств. Нет, он не простил. Он отпустил. В эти самые мгновения в нем произошло нечто важное: словно каменная птица, крепко вцепившаяся в плечи и долго-долго давившая его, наконец, оттолкнувшись, спикировала восвояси, в свою мрачную страну. Теперь-то он отдохнет от бесконечной тревоги, жившей в нем. Ему сделалось легко, так легко, как не было, наверно, с самого детства. Евсеева даже потянуло улыбнуться, но он удержался.
Девочка замерла в проеме дверей, и Евсеев, проведя заскорузлой ладонью по ее жиденьким русым волосам, осторожно отстранил ее с дороги, чтоб пройти. Выйдя на крыльцо, остановился. «Ну и ладно, ну и хорошо, вот и все теперь, — выдохнул он. — Поеду после госпиталя на Вагу, а рапорт уж по возвращении напишу, никуда этот Пинчук не денется». Он огляделся и попробовал вспомнить тропку, по которой они с Филькой уходили тогда. «Кажется, вот она, — решил он, глядя на ведущую к оврагу совсем заросшую стежку. — Дойду до того места, где Филька Богу душу отдал, попрошу там у него прощения еще раз. Может, душа услышит». На самом деле Евсееву скорее хотелось самому что-то услышать — какие-то, быть может, придут в голову слова оттуда, из запредельного мира, если он, конечно, существует, — что-то главное, что может понять только он, ведь они же были больше чем друзьями. Что-то такое, о чем даже не нужно спрашивать — Филька это знает там, что ему, Евсееву, нужно услышать и с чем жить дальше, до самого конца, и сможет это знание каким-нибудь способом ему, Евсееву, сообщить. «А потом на кладбище надо сходить, могилу найти. Проверю этот его чертеж. — Уже шагая в сторону оврага, Евсеев нащупал бумажку в кармане. — Если наврал Мыкола, вернусь за ним и вместе пойдем искать. Потом схрон гляну. Потом в госпиталь. Надеюсь, надолго меня там не задержат. А потом поеду на Вагу...»
Он вдруг явственно представил, как Галчонок босиком бежит ему навстречу: мокрые волосы, сверкающие голубые глаза, капли на щеках. Как будто немного хмельная.
— Успела!
— Ты только из бани?
— Да...
Она взметнула струи своих волос, ее лицо расплылось в улыбке, и он увидел ее знакомый лукавый прищур.
— Ты совсем не похожа на галчонка, — сказал Евсеев. — Сегодня ты — лисичка.
— Подожди! — И в это мгновение ее взгляд сделался очень серьезным, даже строгим — стало ясно, что ей не до дурачеств: она с тревогой посмотрела куда-то ему за спину. Но страха на ее лице не было. Только отблеск вечернего солнца мелькнул в капле, выкатившейся из глаза.
— Что это у тебя? — Он вытер ее слезу и обернулся. Сквозь сумрак заметил, что на крыльце появилась чья-то тень с винтовкой в руках.
— Осторожно! — прохрипел Евсеев, сгреб ее обеими руками, стараясь прикрыть собой. Раздался выстрел, и вместе они повалились наземь.
В это мгновение ее влажные глаза в обрамлении длинных черных ресниц приблизились настолько, что он с необыкновенной четкостью увидел переливы голубой радужки, — и вот уже тысячи ручьев подхватили его и стремительно понесли в своих водах к величайшей тайне мира, что закрыта от нас черным диском зеницы, в таинственный колодец, куда от начала и до скончания веков стекают все впечатления мира.
И страх, когда падаешь и летишь в темноте, длится только одно мгновение, а дальше, словно за отдернутым занавесом, все изменяется во мгновение ока и начинается сначала: святой аист, молча парящий в небе, три предначинательных луча с востока и туманная долина, пронизанная золотым светом.
1 Пасть — самолов с приманкой для добычи лесных зверей.
2 Голбец — подполье в избе.
3 Гасница — маленькая керосиновая лампа без стекла.
4 Индола — топь.
5 Клоч — болотная кочка.
6 Шомныша — кладовая за печкой, где хранятся посуда и некоторые продукты.
7 Верея — столб, на который навешивается створка ворот.
8 Шибер — металлический лист для регулирования потока воздуха.