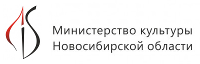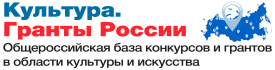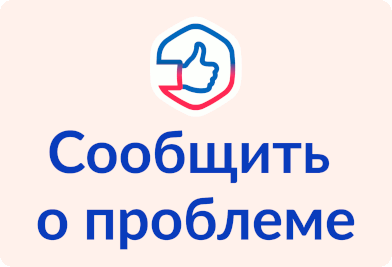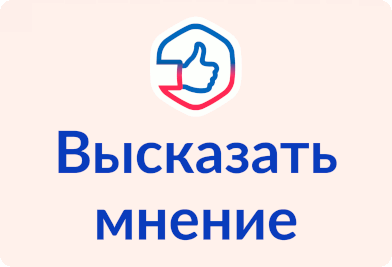Вы здесь
Хроника давнего лета
1.
Ребенок насытился, задремал, разжал губы. Анна вынула из его рта свой сосок. Мальчик чмокнул воздух, но не проснулся. Анна отнесла и осторожно положила в зыбку, подвешенную на крюк, его спеленатое тельце, оправила на себе блузку.
Тут она услышала шум в сенях — наружную дверь отворили.
— Есть дома кто? Хозяйка! — позвал мужской голос.
Пока Анна молчком, чтобы не разбудить сына, шла из маленькой комнаты в горницу, мужчина спросил еще раз:
— Есть кто?.. — и закашлялся.
Это был председатель Верхнелысковского колхоза Иван Викулович Добрынин. До войны он работал учителем в школе, и Анна узнала его по голосу.
— Тише, Иван Викулыч! — попросила она. — Ребенок только уснул.
— А? Извини. Я тихо. Мне бы поговорить...
Председатель, по обычаю всех мужиков в деревне не снимая сапог, прошел по чистому полу к столу, изо всех сил стараясь ступать бесшумно.
— Жара-то какая — жуть! — сказал он, усаживаясь на табурет, и поймал укоризненный взгляд Анны. — Мыла недавно, что ли? Ну не в портянках же мне, в самом деле. Еще больше в них наслежу. В колеях пыли с вершок, не меньше... Можно попить, а? Горло размочить, — еле выговорил он, стараясь удержать кашель.
Анна подала ему оловянный ковш с ключевой водой из кадушки. Иван Викулович, чуть запрокинув голову, принялся глотать, дергая кадыком под морщинистой кожей шеи. Напившись, обмахнул ладонью усы, поставил ковш на стол и осмотрелся. К разговору приступил не сразу.
— Вернулась... Отвоевалась, значит? — наконец спросил он.
— Можно сказать, что да, — нарочито спокойно ответила Анна.
— Что ж... Ну, хотя б живая. Сводку-то седня слушала? Что там на фронте делается?
— Отступаем.
— Второе лето! Вот же, едрит ты! — ругнулся председатель. — Ну как же так?!
Он не ждал, конечно, ответа на этот вопрос. Анна и не пыталась ответить.
— И у нас тут, в деревне, Анна, тоже битва. За урожай. Того гляди, рожь осыпаться будет. А народа нет. Я к тебе что пришел... Ты бы впряглась, а? С завтрашнего числа. Все для фронта, все для победы — так?
— У меня ребенку всего лишь месяц. Как я с ним? Куда его? Мать в колхозе с утра до ночи, а я по дому и с дитем. Я всего-то еще два дня как...
— Это я знаю, знаю. Сил поднабраться надо, ты с дороги, и все такое. Да понимаю я!.. Только сама подумай — кто в полях работает? Ребятишки с двенадцати лет, бабы да старики. А зерно осыплется — что тогда? Выйди помоги, Анна!
Это прозвучало уже как приказ. Женщина заробела.
— Ну а куда сына-то? — выговорила она.
— Положишь его под кустик на меже. Ведь испокон веков так бабы работали. В тенечек, на свежий воздух... Может, оно и здоровее, чем в душной избе-то. А заплачет если, ты тут как тут, неподалеку.
Лицемерия в его словах было столько, что Анна не удержалась:
— Иван Викулыч, вы нас сами учили в школе, я запомнила, — так при царизме только было, и неправильно это! Дайте еще хотя б неделю. Пусть дите хоть чуть-чуть окрепнет.
Иван Викулович заметно смутился, отвел глаза. Поразмышлял, рассматривая разросшийся куст сирени за окном. Потом сказал с неохотой, проталкивая слова сквозь пегие от седины усы:
— Решили, даю два дня. И чтоб потом — как штык!
Анна вдохнула:
— Ладно.
Председатель шлепнул сухими ладонями по коленям:
— Ну хорошо, что договорились... Пора мне. Застоялся мой железный конь. Надеюсь, пацанята не увели, — пошутил он, тяжело поднимаясь со стула. — Хорошо, велосипед в райцентре выдали, а то бы я совсем без ног остался... В школе, говоришь? Сейчас бы обратно в школу! Ну какой из меня председатель, к ядрене фене? Но потерпеть надо. Надо нам всем терпеть, понимаешь, Анна, какое дело. Черт бы их побрал, этих фашистов! Чтоб ни дна ни покрышки им! Ладно, попил, отдохнул — спасибо. Пойду я.
Так же с неловкой осторожностью ступая сапогами по полу, он вышел, нагнув голову у притолоки, и беззвучно прикрыл за собою дверь. Анна проводила его взглядом, мысленно занятая уже новой заботой. До следующей кормежки оставалось часа четыре, надо было самой перекусить, чтобы накопить молоко. Убедившись, что ребенок спит, она повязала косынку и вышла в огород.
Солнце с безоблачного неба грело жарко, кожу на плечах обжигало сквозь ситец. Анна прошла к грядке моркови, пригляделась, отыскивая корнеплод покрупнее.
«Тут с прополкой работы столько, а он в поле гонит!» — подумала она.
— Привет соседям! — громогласно сказал кто-то.
Анна вздрогнула от неожиданности, потом сообразила, кто это, и воскликнула:
— Сергуша, ну у тебя и бас!
Парень засмеялся, очень довольный, и, раздвигая руками кусты малины у межи, протиснулся из своего огорода к ней. Анна убедилась, что хотя у Сергуши за год ее отсутствия и прорезался взрослый мужской голос, но сам он совсем не вытянулся, так же был намного ниже ее.
— Вам собаку завести надо — чтобы лаяла, если что, — весело скаля зубы, сказал сосед.
— Лучше курицу. От курицы больше пользы, — возразила Анна.
— У вас что, куриц нет?
— Есть четыре штуки. Надо бы еще.
— Вот что... Ты меня подожди минуту, я сейчас!
Сергуша опять юркнул в малину.
Анна удивилась, но дождалась, несмотря на безотлагательные дела.
Парень вернулся с глиняной крынкой в руках.
— Вот, на. — Он протянул крынку Анне. — У нас хоть корова есть, а твоя мать и козу-то продала. Бери. Сметана. Бери, бери!
— Это зачем?
— Как фронтовичке, тебе подарок. Вот каким местом, спрашивается, бабы соображают? Война идет — а вы даже без козы. Нет, в доме хозяин нужен! Ты поешь. У нас есть еще...
— Ну спасибо... — Анна взяла из его рук увесистый округлый сосуд. — Спасибо тебе, Сергуша.
Сосед заметно смутился и произнес:
— Попросить хочу... Я по метрике Сергей. Сергеем и зови, хорошо?
— Не обижайся, я ведь не дразнилась. Сергей так Сергей.
— Знаю. Ко мне это прозвище прилепилось, оттого что я слабым родился. Теперь еще всех парней из нашего класса в армию призвали, а мне белый билет всучили. Думаешь, не обидно? Но я точно такой, как все! Я добьюсь!..
— Ты сейчас где работаешь? — перебила Анна.
— В правлении. Я там за бухгалтера. У меня отдельный вход. Председатель думает, там закрыто, а я ключик подыскал — и чуть что на волю. Никто не знает. Постою на солнышке — и назад.
— Попадет за прогулы, поди?
— А я вечером нагоняю, не волнуйся. Лишний часик попишу — и всего делов. Я настропалился, как заправский бухгалтер прямо! В эту тетрадь — овес, тут — картошка, тут у меня, предположим, сено... Учет и порядок полный. Только лучше бы мне на фронт.
Анна усмехнулась на эти его слова:
— Радуйся, что бронь.
Сергей удивленно глянул ей в глаза — не шутит ли.
— Ребята с войны вернутся — а я что? Белой вороной буду?
Издалека с улицы донесся протяжный женский крик. Долго тянулось: «А-а-а!..» Сергей и Анна молча слушали, пока голос не стих, молчали.
— Ну и хитрая бестия письмоноска! — воскликнул Сергей. — Всегда норовит похоронку подкинуть, пока народ в поле. Воткнет в ящик — и наутек. А бабы приходят на перекус и орут что есть мочи. Да и девки тоже. Я эту ее методу давно расчуял. Сколько уж так дворов у нас...
Они еще постояли молча, криков больше не донеслось, только в кустах и на деревьях перекликались птицы да ветер шелестел в листьях.
— Расскажи мне про войну, Аня. Как там, на войне?
— Ну зачем тебе?
— Знать, к чему готовиться. Расскажи! — выпытывал сосед. — Кроме тебя, ни от кого не узнать мне больше. Аня, пожалуйста, как там?
Анна, нахмурив брови, произнесла:
— Не хочу я. Не сейчас, ладно?..
Сергей испугался, вдруг она откажется совсем, и заговорил сбивчиво, торопливо:
— Я не про это интересуюсь. Мало ли что. Бывает... Ты мне про самый фронт, про немцев. Как там — страшно, когда стреляют? Чтоб мне в атаку вместе со всеми встать...
Анна возмутилась, поняв его намек, но, сдержавшись, все же ответила — чтобы раз и навсегда избавиться от таких его расспросов:
— Днем и ночью гул стоит. И земля ходуном ходит. Все поджилочки трясутся, коленей не разогнуть. Страшно там... Ты иди, Сергей. Мне к ребенку надо.
— Ты мне потом подробней, — сказал он, не решаясь пока настаивать.
— Ладно. Иди, иди... — Анна повернулась и зашагала к дому, бережно прижимая к груди крынку.
Сметану она спустила под толстую деревянную крышку, в яму, которую в прежние годы набивали снегом, чтобы сделать ледник, а теперь там было лишь чуть-чуть прохладно да на дне блестела лужица воды: мать зимой снега не натаскала.
Ребенок все еще спал в своей зыбке, под попкой у него было сухо.
2.
В отличие от председателя Добрынина, сержант Соколов ездил по вверенному ему району сельской местности не на велосипеде, а на коне. Подъехав к нужному дому по улице Ленина, 23, он натянул поводья, осмотрелся. Тяжело упираясь подошвой левого сапога в стремя, слез на землю, оправил гимнастерку, сунув большие пальцы обеих рук под кожаный ремень и обведя ими вкруговую жилистое тренированное тело. При этом по привычке ладонью ощупал наган. Пара босоногих пацанят, увидав, что военный в синей фуражке поворачивает голову в их сторону, пустились наутек и сиганули за поленницу, в огороды. Кроме них, на улице не было ни души. Соколов привязал коня к штакетнику перед окнами серой избенки, в тени большой вишни, постучал кулаком в стену. Повременив немного в ожидании ответа, вошел в дом.
Анна сидела у зыбки. Младенец лежал на спине, обхватив ее палец своими прозрачными пальчиками, и, приоткрыв розоватый беззубый ротик, разглядывал потолок.
— Иканины тут живут? Правильно я зашел? — строго спросил Соколов, уже без стука перешагивая порог.
Анна оставила ребенка и вышла на голос гостя.
— Почему не ответила? Я стучал.
Анна, увидев у гостя красные петлицы НКВД с двумя кубиками, встала по стойке смирно.
— Товарищ сержант, я не могла кричать — ребенка боялась напугать.
— Ну хорошо. Предположим. Ладно. Оперуполномоченный Соколов. — Он представился небрежно козырнув. — Анна Никифоровна Иканина — это ты? Правильно понимаю?
— Так точно. Я.
— Кто-нибудь еще дома есть, кроме тебя с ребенком?
— Нету никого.
Соколов, не торопясь, словно что-то ища, обошел горницу, заглянул в кухню, в маленькую соседнюю комнату, где был ребенок. Вернулся и остановился возле божницы с иконой.
— Религиозная, что ли? — спросил он.
— Нет, это матери. Я комсомолка.
— Ладно. Предположим. Познакомиться я заехал всего-навсего, — сообщил сержант и, как будто только теперь заметив, как она стоит, разрешил: — Вольно, вольно. Сядь.
Анна послушно села на лавку. Соколов, продолжая обход, зачем-то принялся разглядывать кухонную утварь возле печи. Анне бросился в глаза темный круг пота у него на спине ниже шеи.
— Так ты откуда к нам? Прямо с фронта? — обернулся к ней энкавэдэшник.
— Нет. Я восемь месяцев при госпитале была. Санитаркой там работала.
— Там и рожала, в госпитале?
— Там рожала.
— Э, да не красней, не красней. Дело молодое. Значит, решила дитя оставить?
— Да, точно так.
— Что ж... Собственно, я не за этим... — произнес оперуполномоченный, отведя пристальный взгляд от ее лица. И вдруг опять впился в нее глазами. — Так как думаешь — победим? Про войну что думаешь?
Анна растерялась, но только на одно мгновение, и ответила вполне искренно:
— Ясно, победим.
— Обстановка сложная на фронтах. Я тебя как бывшую военную спрашиваю — победим?
— Да победим, конечно. И Иосиф Виссарионович так сказал — что победа будет за нами, — нашла она спасительный ответ.
— Что ж, это верно, верно, — проворчал сержант. — У тебя кто командиром был? Звание, фамилия... А?
— Это военная тайна. Я не могу сказать.
— Мне-то можно.
— Не положено.
— Ладно, не говори, — разрешил Соколов. — Значит, воевала ты....
— Санитаркой. Я бойцов вытаскивала. Раненых. На себе.
Энкавэдэшник внезапно прервал допрос, торопливо скинул крючок на окне, распахнул створки и высунулся наружу. Закричал исступленно, бешено:
— Отойдите от коня! Живо! Я в милицию заберу!..
Потом, обернувшись к Анне, продолжил уже спокойно:
— Вот шпана! Ни минуты покою. Так и норовят... Значит, ты... А на фронт ты попала, стало быть, добровольцем?
— Да. В первый же день войны. Я же курсы медсестер окончила в школе. Меня взяли сразу.
— Что про политическую ситуацию в мире думаешь? Прессу выписываете?
— Нет, у нас дома радио. А газеты — в клубе, в красном уголке. Там мы всегда читали.
— В США кто президент?
— Рузвельт.
— В Англии премьер-министр кто?
— Черчилль.
— Верно. А демократический централизм знаешь что такое?
— Это как у нас в стране — демократия, к мнению простого народа прислушиваются, но когда партия приняла решение, надо выполнять его беспрекословно.
— Что ж, тоже верно... Что собираешься делать дальше?
— Послезавтра выхожу на работу. Председатель сегодня был, он велел. На полях работать буду, в колхозе. Или, может, на ферму пошлют. Точно еще не знаю.
— Значит, товарищ Анна, про то, что на фронте видела, — никому ни гу-гу. Никому! Матери родной — и той ни полслова, ни намека, ничего. Ясно?
— Так точно.
— Это под твою ответственность. Если узнаю, что язык распускаешь, — пеняй на себя. Понятно? По закону военного времени. За разглашение сведений или за сеяние паники — сама понимаешь что.
— Я поняла.
— Вот и хорошо. Если что надумаешь органам сообщить... как военный человек, давший стране присягу. Где упущение заметишь, беспорядок, или преступление против народной собственности, или вдруг измену... То я в Мокино сижу, в здании, где милиция.
— Хорошо.
— Ну, до свидания, Анна, — сказал Соколов и вышел.
С улицы вскоре донеслось:
— Стой ты, окаянный! Стой, тпру!..
Анна, прячась за занавеской, убедилась, что он уехал. Ребенок в соседней комнате начал хныкать. Анна перепеленала его, взяла на руки и понесла по дому, покачивая.
— Аня, это кто там по улице проскакал? Часом, не от нас? — входя в дом, спросила ее мать, Елена Абрамовна.
Следом вошла Кузьминична — соседка, мать Сергуши.
Поздоровавшись сперва с ней, Анна ответила матери:
— Это ко мне. Из милиции. Меня приезжал проверить. Спрашивал разную ерунду. Ноги до сих пор ватные.
— Шляется, не сидится ему! — заворчала мать. — Ладно, мы ненадолго. Пообедаем — и назад.
Кузьминична объяснила свой приход:
— Напросилась вот с твоей матерью — на ребеночка посмотреть. Может быть, покажешь?
— Вера Кузьминична, я боюсь...
— Спичку в рот возьму. Слова не вымолвлю. Ни звука! Я не урочливая, не сглажу. На деревне каждый подтвердит, — затараторила Кузьминична и в подтверждение своих слов вытащила из кармана и закусила зубами грязную спичку.
Анна на несколько секунд поднесла к ней ребенка. Кузьминична молча поглядела на него, отошла в сторону, вынула спичку и сказала Анниной матери, улыбаясь:
— Ну, Абрамовна, я пойду. Значит, после обеда встречаемся у родника?
Когда соседка ушла, Анна шепотом произнесла:
— Мамка, я боюсь.
— Не бойся, она не злая, и глаза не черные, — возразила мать. — Дай-ка внука мне, покачаю. А-а-а, а-а-а. Баю-баю, баю-бай, поскорее засыпай. Баюшки-баюшки, спят мои детушки...
— Мам, он только проснулся. Хочет есть.
— Ну титьку ему подсунь, — сказала мать, возвращая ребенка. — Отвыкла я от мелкоты.
— Хорошо, молоко не кончилось. Я боялась, не довезу ребятенка, — сказала Анна, давая младенцу грудь. — На железке прямо ад кромешный, не протолкнуться.
— А сказала вчера — нормально.
— Сказала, чтоб сходу не пугать.
— Вот ведь жизнь пошла... — вдохнула мать. И спросила: — На отца похож?.. Что молчишь? Похож?
— Нет.
— Они быстро, малютки, меняются. Чуть ли не каждый день. Смотришь — они такие, потом — другие, потом — еще... Может, походить начнет.
— Мамка, прекрати!
— А ничего. Без регистрации — да кому какое дело? Так вот и скажу, если что... Люди молодые, любить хотят. А тут война. А в войну — не то же самое, что всегда... — вытаскивая из печи казанок с картошкой, говорила сама себе Елена Абрамовна.
— Замолчи! — громко взмолилась дочь.
Мать перевела разговор на другое:
— Сегодня опять кричали. Слышно даже в поле — мы недалеко тут. Это у кого?
— Я не знаю.
— Сколько уж раз было... Ну, ты вернулась — и слава богу! — заключила мать, обхватила кормящую дочь за плечи и зарыдала, давясь слезами, чтобы не в голос.
3.
В правлении колхоза оперуполномоченный Соколов проводил беседу с председателем Добрыниным.
— Говорите, напоят моего коня, Иван Викулович?
— Обязательно напоят. Ребятишкам я велел. Толковые, хотя от горшка два вершка. Сказал им на лужайке потом попасти его, посторожить. Не волнуйтесь, товарищ Соколов, все в порядке будет.
Энкавэдэшник по своей привычке осмотрел помещение, проверяя, нет ли лишних ушей.
Указав на закрытую дверь, спросил:
— Это что у вас?
— Бухгалтерия. Там счетовод работает.
Соколов отворил дверь и заглянул в каморку счетовода.
— Никого.
— Как это — никого? — удивился председатель. — Опять убежал, что ли? Влеплю ему выговор — так узнает!
Соколов плотно притворил и бухгалтерскую дверь, и входную.
— Есть серьезный разговор, — сказал он, подходя к председателю. — Строго между нами. Понятно?
— Это само собой.
Они не слышали, как в бухгалтерию, отомкнув своим ключом отдельный вход, бесшумно пробрался Сергуша. Он сел за стол с грудою бумаг, придвинул гроссбух и обмакнул перьевую ручку в чернильницу.
Соколов, как человек государственный, для начала задал вопрос по хозяйству:
— Какие виды на урожай, Иван Викулович?
— Я себе места не нахожу! — воскликнул председатель. — Пекло стоит какое! Яровая еще чуть-чуть — и сыпаться начнет. Но мы сделаем, что возможно. Все, что в наших силах.
— Пекло — не оправдание, — строго возразил энкавэдэшник. — У нас в любую пору — то пекло, то заморозки, то ненастье. Тут Вятка, а не Кубань. Зона рискованного земледелия. Мы к любым трудностям обязаны быть готовыми.
— Так-то оно конечно. На Кубани ветку в землю воткнул — растет. Не буквально, а фигурально...
— Какие настроения в народе, что говорят? — перебил Соколов.
— О чем?
Соколов посмотрел в упор в глаза председателю:
— Вот не надо мне тут крутить, Иван Викулович, ну не надо! О чем, о чем... Разумеется, о войне.
Сергуша, слыша голоса, осторожно подкрался и поглядел в замочную скважину, с кем там говорит председатель. Увидав сержанта в военной форме, он собрался было постучаться к ним и войти, даже поднял руку, — но не решился и опять вернулся к столу.
— Переживают все, конечно, хотят помочь. Сил своих не жалеют, работают за двоих, — доносился через дверь голос Добрынина.
— Подстрекатели, паникеры были замечены?
— Ну откуда у нас паникеры? В колхозе — и паникеры? Нету и не было никогда. Знаете, какой народ у нас? Неслучайно имя колхозу выбрали — «Веселые ребята», как в кино.
— Вот деваха у вас одна, с фронта только что. Как ее?.. — Соколов сделал вид, что запамятовал.
— Анна Иканина.
— Знаете ее?
— Как не знать!
— Про нее разговор особый, — сказал сержант. — Дело тут такое... Ведь у нее ребенок. И понимаете... Этот ребенок — немец.
— Как же так?! — воскликнул председатель с безмерным изумлением. — Девка в школе у меня была активистка! Пионерия, комсомол. Ни в чем таком не замечена никогда.
— Была-то была, — усмехнулся энкавэдэшник. — В плен она попала осенью сорок первого, к фашистам в руки. Ну, они и того... надругались над ней. Тут как раз наши в атаку пошли, фрицы драпанули. Ее спасли. Только понесла она.
— Вы считаете — это ее вина? — осторожно спросил председатель.
— Если бы сама сдалась к ним в плен, то была бы вина. Но проверили, оказалось, что не сдавалась. В части отзывы хорошие о ней, это да. Только ведь она от ребенка избавиться могла, аборт сделать. А не стала, разродилась фрицем.
— Ну и ну... — задумчиво произнес Иван Викулович, потирая пятерней затылок.
— То-то и оно, — сказал сержант, увидев, что его поняли правильно. — Очень подозрительно. Мало ли что у нее на уме. Кто знает?.. Нужен глаз да глаз.
Сергуша в каморке счетовода сидел приоткрывши рот. Потом он вскочил и пошел было к двери, за которой слышался разговор, но на полпути опять передумал, повернулся и вышел в другую дверь, наружу. Обогнув по тропинке правление, он поднялся на главное крыльцо и постучал. Председатель с оперуполномоченным уже обсудили все, что надо, поэтому разрешили ему войти.
— Сергей? Куда ты в рабочее время шлялся? — рассерженно начал отчитывать его председатель.
— Иван Викулыч, я потом вам объясню, — ответил счетовод.
Он на носках повернулся к Соколову и, лихо приставив ногу, ударил пяткой в пятку. Впрочем, стоптанные каблуки не щелкнули.
— Товарищ сержант, разрешите обратиться? — спросил он, стараясь, чтобы это прозвучало по-военному.
— Слушаю. Говори.
— Товарищ сержант, я прошу взять меня в армию! — выпалил Сергуша.
— Так иди в военкомат.
— Я ходил! Не берут. Весь наш класс забрали, я один остался. Бракуют меня, и все.
— Там врачи, комиссия. Стало быть, так надо, — начал втолковывать Соколов, желая поскорее отвязаться от хилого, но настырного сморчка.
Сергуша, испугавшись, что ему отказывают, быстро заговорил:
— Товарищ сержант, я ненавижу фашистов! Я руками их готов душить! Почему я должен сидеть в тылу за бумагами? Дайте мне винтовку, я двадцать восемь выбиваю из тридцати!
— Да какая тебе винтовка? — уже мягче сказал сержант. — Ты меньше ее ростом.
— Да нет же, товарищ сержант! — воскликнул в отчаянии Сергуша. — Метр пятьдесят она, если со штыком, а я вчера померялся — метр сорок восемь. И я еще расту!..
Соколов глядел на худенькое личико просителя и думал, что сегодня еще нужно проехать на коне двенадцать километров до деревни Ваничи, где поломали трактор в самый разгар работ, и это, вполне вероятно, преднамеренное вредительство; потребуются разборки, и до райцентра он доберется в лучшем случае только завтра к вечеру...
— Ладно, бери бумагу, карандаш, — скомандовал он. — Пиши заявление. Только не расписывай цветисто, ни к чему. Пиши просто: «Прошу меня принять добровольцем». Точка. Подпись, фамилия и как зовут.
Сергуша просветлел лицом, стремглав кинулся в бухгалтерию и, стараясь выводить слова как можно разборчивее, быстро все написал, как велели.
4.
На вечерки к сестрам Лялиным набралось молодежи два десятка человек. Чтобы было легче дышать, раскрыли в избе все окна. Не сидели впотьмах, жгли керосинку. Горючее сестрам выделял их дед из каких-то своих запасов. Сперва крутили на патефоне стертые пластинки. Танцевали девушки с девушками под музыку «Брызги шампанского». Пацаны-малолетки робели, к девчатам не подходили — делали вид, что и так весело, щелкали семечки, сидя вдоль стен на лавках. Все знали: музыка будет недолгой, только совсем чуть-чуть — чтобы не стирать иглу, да и сами пластинки.
Вскоре одна из сестер, Раиса, прямая, как жердь, рябая девка, захлопнула крышку патефона:
— Будет!
Теперь настала очередь петь самим. Сняли с гвоздя на стене гармошку, передавали ее из рук в руки, пока она не достигла Сергуши. Он, как старший мужчина в компании, имел право играть на ней.
Парень растянул меха, потом, сжимая их обратно, перебором пробежал пальцами по кнопкам, приклонился щекой к басовой крышке и принялся наигрывать душевное, плавное.
Девки закричали:
— Веселей, веселей, Сергуша! — и под веселую музыку еще пару раз сплясали.
Потом одни расселись по стульям, а другие остались стоять, прислонившись к печи. Спели вначале «Катюшу» — про расцветшие яблони и груши, про девушку, которая сколько угодно могла прождать и ждала. Затем — песню о том, что звать любовь не надо, явится нежданной, счастьем рассветет вокруг. Потом — о парне за далекою Нарвской заставой, который идет туда, где за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов.
— Далека ты, путь-дорога. Выйди, милая моя! Мы простимся с тобой у порога и, быть может, навсегда, — играл Сергуша, и ему самого себя становилось жалко. Впрочем, любезной у него никогда не было. Просто сегодня пригрезилась такая фантазия, вот и все.
Конечно, музыка у Сергуши получалась не такая залихватская, как у лучшего гармониста деревни Леньки Непряхина, который ушел еще год назад воевать и погиб. И даже не такая, как у Жорки Криницына, который сейчас тоже был на войне. Но все-таки, если не вслушиваться, а просто петь, то с музыкой было лучше, чем без нее.
Вечерки устраивались у Лялиных уже не первый год. Родители сестер выделили для молодежи старую избу: ее не снесли, оставили во дворе под летнее жилье, а поблизости в ограде выстроили вторую, где теперь и жила семья. У старших был расчет: из девок Лялиных две — Раиса и Лидия — явно засиделись, им полезно было почаще показываться на людях. Сейчас в деревне кавалеров не осталось ни одного, но привычка у поредевшей молодежи собираться по средам у Лялиных никуда не делась.
Наконец напелись досыта, расчувствовались, и Раиса сказала:
— Хватит! Прогуляемся до берез.
Девчата повалили гурьбой из дома, поправляя косынки на шеях и одергивая подолы. Лидия, набросив на плечи большой цветастый платок, перешагнула через порог павой. Пацаны, чтобы не ждать в дверях, повыпрыгивали из окон. Раиса, выходя последней, задула керосиновую лампу. Так обычно оканчивались почти каждые посиделки.
До оврага шли под звуки гармони, с которой впереди всех шагал, ссутулясь, Сергуша. Луна на ясном небе светила лучше всякого фонаря, и поверхность дороги отражала ее лучи.
На краю оврага гармонь затихла. Тут Раиса скомандовала:
— Бегом!
Каждому с детства был знаком этот пологий песчаный спуск, по которому катались зимой и бегали наперегонки летом. Парни обогнали всех девчат, кроме длинноногой сухой Раисы, — до подножия оврага, до сырой земли она добежала первой, размахивая руками. Тут по очереди осторожно перешли через ручей по скользким, уложенным мостиком бревнам и шагом поднялись по другому склону наверх. За оврагом неширокой, но протяженною рощей росли березы. Над утоптанной площадкой, на изгибе ветки большой березы, висели веревочные качели с доской на двоих, неподалеку была беседка. Дождались Сергушу и, когда он, запыхавшись с ношей, взобрался к ним, попросили сыграть еще что-нибудь. Притомившись, он умолк очень скоро, и стало по-особенному приятно слушать ароматную ночную тишину.
— Ох, когда наши-то вернутся... — произнес в темноте девичий голосок.
— Победят — тогда и вернутся, — веско ответила Раиса, обернувшись в ту сторону.
— А Иканина Анька уже вернулась, — заметил кто-то из пацанов.
Кто-то добавил с ехидцей:
— Вернулась, и не одна!
Это замечание вызвало общий смех.
— Не тем местом Анька повоевала!..
Сергуша не смог стерпеть этой несправедливости, он до визга дернул меха гармони, чтобы заглушить дурной хохот.
— Вы не знаете, а она, может, сто раненых бойцов вытащила из боя!
— Может, тыщу? Может, миллион? — задразнились глупые малолетки.
— Она даже в плену была! — выкрикнул Сергуша едва не в бешенстве.
— В плену? Ты откуда знаешь? — спросила его Раиса.
Сразу смешки затихли.
Сергей не ответил.
— Так вот откуда у нее ребенок! — протяжно сказала Лида. — От фашистов.
На лбу Сергуши выступил липкий пот.
— Я вам этого не говорил! — со слезами в голосе крикнул он.
— Ясно все тогда, — поддержала Лиду Раиса.
Девчата у них за спинами сошлись в небольшую стайку и замолчали.
Сергуша сам не понимал, как так получилось, что он выболтал тайну. Хотя на самом деле он ее не выбалтывал и не собирался этого делать, однако же все узнали — и в этом виноват он. Он! Взвыв, парень вскочил со скамейки, не глядя сунул гармонь кому-то в руки и побежал, стуча по сухой земле кирзовыми сапогами, — подальше, чтобы никого не видеть, не слышать, чтобы это все исчезло куда-нибудь, испарилось, будто бы и не было никогда...
На следующий день, в полдень, в дом Иканиных, будто ополоумев, вбежала мать Анны — Елена Абрамовна и, отворив дверь, долго и судорожно дышала возле порога, глядя на дочь, вжимала ладонью грудную клетку, готовую разорваться.
Анна, расширив глаза, смотрела на нее и ждала. Наконец мать, шатаясь и чуть не падая в обморок, прошагала в пыльных ботинках к ней, схватила ее за руку и приказала срывающимся на хрип голосом:
— Говори!
— О чем? — спросила Анна, хотя ей было уже ясно.
— Это правда? Ну, что... Про немцев? — собравшись с силами, спросила мать.
Анна не ответила. Елена Абрамовна дернула ее за руку. Глаза Анны заволокло влагой. Лица матери она уже не различала. Та отпустила ее, повалилась на колени и стукнула лбом о половицу. Спина ее под натянутым платьем затряслась.
Соседка Иканиных Вера Кузьминична крепилась весь день, но под вечер не утерпела. Их бригада сегодня была брошена на уборку картошки. Бабы кто лопатами, кто вилами — кому как удобней — выкапывали клубни, собирали в ведра и пересыпали потом в мешки. Делали свою норму — по сотке на человека. Деревенские мальчишки, которые правили лошадьми, грузили урожай на телеги, увозили на складской двор. Скоро должны были закончить, ждали команды от бригадирши.
Тут Веру Кузьминичну словно черт дернул за язык. Она приблизилась к матери Анны, работавшей молча и зло, и с улыбкой сказала, будто бы просто так:
— Умаялась! Фу, жара... Абрамовна, разреши еще разок на внучка твоего глянуть!
— Это зачем тебе? — глухо сказала та. — Ты уже видела.
— А не рассмотрела ладом-то я впопыхах. Все-таки любопытно, какие они, арийцы эти...
Кузьминичне и самой было странно: она на донышке сознания понимала, что не надо бы этого говорить, но от скуки, от усталости или еще от чего встряла со своей просьбой.
— Бабы судачат... — все продолжала она, не в силах замолчать.
Но тут Абрамовна ей помогла: подхватила с земли картофелину и швырнула в соседку. Увернуться той не удалось, клубень больно ударил в щеку. Вера Кузьминична, взвизгнув, отскочила и пустилась наутек. В лопатку впечатался еще один клубень. Испугавшись, что сзади вцепятся в волосы, Вера Кузьминична, не оглядываясь, упрыгала через рядки ботвы на безопасное расстояние.
5.
В октябре по осклизлой от дождей улице в правление колхоза «Веселые ребята» пришел молодой офицер в длинной шинели, с портупеей и пустой кобурой на боку. Он козырнул председателю Ивану Викуловичу и представился старшим лейтенантом Максимовым. Поскольку военной власти в деревне не оказалось, он явился доложить о своем прибытии старшему должностному лицу из гражданских.
— Так-так-так... — произнес Добрынин, прочитав машинописный текст на поданной офицером четвертушке серой бумаги. — Значит, после ранения? Две недели отдыха? А зачем же к нам?
— По личному делу, — начал было уклончиво отвечать Максимов, но потом все-таки пояснил: — Знакомых проведать. Кстати, адрес хочу спросить. Дом Иканиных. Может, знаете?
— Как не знать! — воскликнул Иван Викулович. — Знаю, знаю. Деревня немаленькая у нас: по Советской улице сто девяносто домов, да по улице Ленина за полторы сотни, да в проулках стоят дома, — но приходится всех держать в голове. Работа такая. Знаю.
Он назвал офицеру адрес Иканиных, но предупредил, что сейчас там никого дома нет: и мать, и дочь на ферме.
— Я тогда на ферму...
— Посторонним туда нельзя, — торопливо перебил председатель. — Время военное. Конечно, не режимный объект, но все же... Не имею права допустить. Ведь продукты делаем, мало ли что. Сами должны понять.
Максимов кивнул и задумался на мгновение.
— Переждать в приемной можете, располагайтесь у нас на стуле, — указав рукой, гостеприимно сказал Добрынин.
— Нет, я на улице, сегодня совсем не холодно...
Едва за военным закрылась дверь, председатель взялся за телефон. У телефонистки на другом конце провода изменился голос, когда она услышала, с кем он просит соединить.
— Слушаю. Соколов, — донеслось из трубки.
Иван Викулович сбивчиво объяснил, почему звонит:
— Понимаете, посторонний. Именно к ним... Лысковых, Криницыных, Лялиных — пруд пруди, а Иканины только одни в колхозе. В форме. Представляется офицером. Ходит и осматривает деревню.
Через три часа Соколов шагом въехал в Верхнее Лысково верхом на своем коне и направился сразу к дому Иканиных. Еще издали он увидел гурьбу ребятишек, которые окружили военного, сидящего на завалинке: очевидно, любопытничали, расспрашивали. По мере того как Соколов подъезжал, компания мелюзги редела, а когда он соскочил с седла и подвел коня к палисаднику, чтобы привязать поводья, никого из них уже не было. Офицер встал и, приложив ладонь к фуражке, как положено отдал честь. Соколов в ответ тоже козырнул, но небрежно: полусогнутой ладонью, торопливо — мол, не до того теперь.
— Документы предъявите! — велел он.
Документы оказались в порядке. Пехотинец, старший лейтенант, отпуск после госпиталя. О цели своего приезда он сообщил то же, что говорил председателю колхоза Добрынину — хочет навестить знакомых, Иканиных.
— Родственниками вам приходятся или как? — неотрывно глядя ему в глаза, спросил Соколов.
Пехотинец заметно смутился. «Странно, — насторожился Соколов. — Странно».
Малиновые петлицы и синий околыш фуражки энкавэдэшника сказали Максимову, что придется выкладывать начистоту все, как есть, или, по крайней мере, больше, чем он сообщил председателю.
— Понимаете, девушка тут живет. В батальоне у нас служила санитаркой, сестрой милосердия. Вытащила меня раненого в сорок первом, спасла. Жизнью обязан ей. Теперь вот решил проведать. Возможность есть: после нового ранения — отпуск...
«Что ж, предположим. Ладно», — подумал Соколов и достал из кармана пачку папирос «Беломорканал».
— Куришь? — спросил он. — Угощайся. Бери-бери!
Они закурили и сели на скамейку бок о бок. Сквозь улетающие облачка табачного дыма Соколов смотрел на другую сторону улицы, на маленькую лысую березку с мелкими бурыми листьями и на тополек, будто совсем не тронутый заморозками, — он и под снег уйдет таким лопухастым, зеленым, свежим.
— Школьники их прикапывали лет пять или шесть назад, — проговорил Соколов негромко. — Кинули клич, мол, красивей жить с деревьями, — и понеслось. У каждого дома, на каждой улице копали, сажали, таскали землю. В каждой деревне, не только тут. Ребята из старших классов. Многие из них сейчас на войне... А деревья вот — растут.
Максимов промолчал, не зная, как на это реагировать, сквозь трубочку папиросы втянул что есть силы воздух. Хороший табак зашипел об уголь, отдал едкий жар, согревая нутро.
— Значит, два ранения у тебя, старлей? Немало, — снова произнес Соколов.
— В пехоте без этого не обходится, — ответил ему Максимов. — У шоферов да в артиллерии — там полегче. А у нас, на передовой, обычное дело. Пулемет — шестьсот выстрелов за минуту! Можете представить?
Соколов подумал, что хотя он и ниже офицера по званию, но до чего же выше его по должности! Он обращался к старлею на «ты», тот говорил ему «вы» — и это было вполне естественно.
— Подарки, небось, везешь? — с усмешкой спросил он у пехотинца. — Дай-ка взгляну, что в мешке.
— Да какие подарки! Пара банок консервов да сухпаек, — возразил Максимов, но вещмешок отдал.
Энкавэдэшник ощупал содержимое через ткань, потом развязал тесемки и зыркнул внутрь, но рыться там все-таки не стал. Возвращая мешок, сказал, снова с улыбкой:
— Обрадуется Иканина. Любят бабы подарки, любят.
Можно было уезжать — все, что следовало, он проверил.
— А как тебе конь мой, что скажешь? — вместо этого спросил он. — Нравится он тебе?
Привязанный жеребец понял, что говорят о нем, поднял чубатую голову, покосился на хозяина черным глазом.
— Очень красивый конь.
— Очень? Только и всего? Очень... Сразу ясно, что ты городской. Это о-го-го какой конь!
Соколов вскочил с места, втоптал окурок в мокрый дерн и подошел к скакуну.
— Спросишь, почему такой конь — и не на фронте? — весело скаля зубы, спросил он. — Красавец! — Сержант погладил вороную шею коня, успокаивая его. — А все очень просто: копыто у него треснуло. Вот погляди — копыто.
Он заставил жеребца поднять левую переднюю ногу и, искоса, как и его конь, глядя на Максимова, спросил:
— Видишь?
Соколов все приглядывался к приезжему и пытался определить, что в нем необычного. Впрочем, это оказалось не так уж сложно: в лейтенанте не чувствовалось страха. Осторожность, напряженность чувствовались, а страх — нет. И мелькнула мысль: «Ишь, какие — фронтовики!» Очень тянуло поговорить, расспросить, как там и что. Только, разумеется, не спросил. Кто ему ответит, да от души?
«Почему отступаем? И зацепимся ли за Сталинград или откатимся дальше, сюда, на Вятку? Почему перед войной лясы точили с Гитлером? Кто прозевал в Красной армии, как подготовлен враг? Какая этому виновному назначена расплата?» — Он разрешил рою опасных мыслей промелькнуть в мозгу и отогнал их.
— Значит, погостить решил? Ну, гости́! — сказал, разматывая поводья.
На прощание мужчины пожали друг другу руки.
6.
На улице началось движение — баб отпустили обедать. По одной, по две, а то и группами по несколько человек шли они по дороге, выбирая места, где суше, или шагали по обочинам вдоль заборов. За заборами лаяли собаки, обрадовавшись занятию. Максимов встал со скамейки, чтобы издали увидать, которая из женщин Анна.
Он не узнал ее.
Молодая низенькая баба в белом платочке, с запеленатым младенцем на руках, свернула с дороги к дому Иканиных и остановилась, увидев Максимова. Ясно было, что военному что-то нужно именно в этом доме.
— Вам чего? — удивленно спросила она.
Старший лейтенант вовсе не такой ее запомнил. И ребенок этот... Зачем ребенок? Максимов глядел в ее лицо и пытался в нем угадать знакомые черты той — в гимнастерке, а не в черной кацавейке, и пилотка на голове, а совсем не косынка, нет... Но вдруг нынешнее бледное, осунувшееся лицо заменило в памяти прежнее, и показалось, что другою эта женщина и не была — все та же она, все та же! Но ребенок этот... Это же все меняет — ее ребенок. Как же, как же так? Почему?
— Вам чего? — повторила она. — Вы к нам?
— Анна... В/ч 35798, батальон Уфимцева? Я — лейтенант Володя.
— А, Володя... Володя, да! — Она шагнула к нему и на мгновение коснулась щекой его плеча, колючей его шинели, выказав радость, но лишь как сослуживцу. — Какими судьбами здесь?
Он не сказал ей правды.
— Мимо ехал, завернул проведать тебя.
— Да? Ну входи, входи... — И она не мешкая провела его через ворота во двор, чтобы скрыть от любопытствующих прохожих.
— Как ты, что? — продолжала спрашивать уже в доме.
— Я из госпиталя, буквально на час. Только повидать и сказать спасибо. — Он повернулся к ее матери, тоже пришедшей на обед, только несколькими минутами позже: — Аня ведь спасла меня! Если б не она, то сейчас бы я с вами не разговаривал. Рану перетянула, кровь остановила и, наверно, целый километр волокла меня на себе. Представляете?
Елена Абрамовна посмотрела на его крупное тело и покачала головой.
— Как ты разузнал, где я живу? — спросила Анна.
— Мне в полковом архиве писарь один дал адрес, — улыбнулся Максимов. — Конечно, не просто так — за целую фляжку спирта. Дивизия наша здесь, неподалеку, формировалась, все призваны из одной области, весь личсостав. Я сейчас сразу в Киров, к матери. Удобно получилось.
Он начал выкладывать из вещмешка гостинцы. Ребенок вдруг пронзительно заплакал. Анна унесла его в соседнюю комнату, чтобы сменить пеленки.
Максимов смутился и заспешил:
— Не буду мешать, пойду...
— Ну куда ты? — услыхав, крикнула ему Анна. — Даже не выдумывай! До утра со станции не уедешь ни в одну сторону. Утром поезд остановится, в него и заберешься, если сумеешь. А пока давай перекусим. Мы потом опять на работу, а ты оставайся здесь, приляг и отдохни.
Елена Абрамовна отворила заслонку и достала из протопленной утром печи чугунок с еще теплой жидкой картофельной толченкой. Расселись за столом, начали ложками черпать из общей посуды. Хлеба не было, но каждому мать Анны дала по приличному куску зеленой травяной лепешки. Оголодавший офицер ел с удовольствием, однако старался не орудовать ложкой быстрее других. Чтобы прервать молчание, он спросил, указав на иконы в красном углу:
— Это кто у вас молится? Аня, ты?
— Мамка это. Не я. Она.
Елена Абрамовна молчком продолжала жевать, будто тема ее не касалась.
— А я мальчишкой карикатуры рисовал в школьную стенгазету. Она называлась «Безбожник». Очень смешные были карикатуры — гуашью, карандашом. Хорошее было время...
На ферме то одна, то другая колхозница подходили к Анне, интересовались, откуда гость.
— Со службы прислали, уточнить документы, — чтобы отвязаться, лгала им Анна.
— Ишь ты, гляди! Со службы.
Она сама не могла понять, зачем Максимов явился к ней. Помнила его смутно. Был у них в полку лейтенант Володя? Да, вроде был, молоденький... Много кого она повытаскивала из боя, разве упомнишь всех!
Наконец привели стадо. Коровы, покачивая выменем, пошли отыскивать привычные стойла, дежурные бабы закрыли проходы жердями и закричали, что можно впускать быков. Вбежали два племенных быка с кольцами в носу, потыкались вправо, влево и, поняв, что им открыта лишь одна дорога, свирепые, недовольные, заняли свои места в загонах.
— Ну дурные! — как всегда, разноголосо кричали на них доярки. — Где таких берут? Звери! Крепыш! Визирь! Успокоились! Тихо, тихо!
После долгой дойки, с тяжелыми, неразгибающимися ладонями, бабы в сумерках отправились по домам.
Володя уже заждался. Ходики на стене, с привязанными к гире ножницами, отмеривали время, но так лениво, что хотелось им на цепочку навесить еще какой-нибудь груз для скорости. Иконы, казалось, смотрели, следили за каждым шагом, в какую бы сторону Максимов ни шел.
«Надо ж было тебе сделать из мира такую гадость! — подумал старший лейтенант, остановившись перед божницею. — Разве нельзя было иначе? Все существа, что тобой созданы, только и делают, что убивают да жрут друг друга. Ну зачем?!»
Он смотрел на образ Николая Угодника и считал, что мужчина, нарисованный на иконе, — это и есть Бог.
«Зачем эти бессмысленные мучения? Это бессердечие, подлость, зло? Родимся все добрыми и наивными, кроме разве что крокодилов со змеями. А потом становимся как они. Ах, какая была бы жизнь, если б не жадность богачей, не разруха от бесконечных войн! Сколько бы всего построили, создали, открыли, придумали! Сколько народу бы родилось! Только представить себе...»
Анна с ребенком на руках, завернутым в одеяльце, пришла опять раньше матери. Засуетилась у печки, растапливая плиту:
— Сейчас, сейчас перекусим чего-нибудь!
Володя странным образом через стену чувствовал присутствие ее сына в соседней комнате, и это сковывало его.
Анна собралась было открыть банку тушенки, которую Максимов привез в подарок, — чтобы его же и накормить. Он не позволил, попросил, чтобы съели это потом, когда он уедет.
Пока на плите грелся чугунок, сидели в полутьме, смотрели на огонь в печи.
— Значит, ты опять на фронт? — спросила Анна.
— Ну а как иначе-то? Хорошо, что признали годным. В этот раз посерьезней ранили, чем тогда...
— А куда?
— Сюда вот. Пулей, навылет. — Володя указал пальцем место повыше сердца. — Сзади лопатку насквозь пробило. Считай, все лето в госпитале провалялся. Теперь в свою часть уж точно не попаду.
Он намеренно перевел разговор на воинскую часть, потому что общий полк — это было все, что их с Анной в прошлом связывало. Попытались найти общих знакомых. Начальник медсанбата — про него ни он, ни она ничего сказать не могли: был такой и был. Да еще — хирург. Максимов его хорошо запомнил, особенно белые, в закатанных рукавах руки с серебристыми волосками. За две недели пришлось потерпеть от этих рук, и немало.
На передовой, в окопах, общих знакомых не отыскалось ни одного.
— Ты давно оттуда? — спросила Анна.
— С мая месяца. Под Ржевом стукнуло. Вывозили на телеге. Кочка на кочке! Так и везли.
Володя мог бы пояснить Анне подробнее, что значит «кочка на кочке»: вопли других раненых и его собственные будто сейчас в ушах. Только зачем? Наверняка она все поняла.
— А ты когда? — тоже спросил он.
— В октябре, — тихо сказала Анна.
— Это когда ты меня вытащила, тогда?
— Да, наверно, — пробормотала Анна тише, чем треск печи.
Разговор зашел в тупик, оба замолкли.
— Заскучал, небось, — весь день в четырех стенах? Как поедим, сходи погляди вокруг. У нас в деревне клуба нет, но молодежь сама собирается иногда, — вдруг сказала Анна, как бы разделив себя и Володю, отнеся его к молодежи.
«В самом деле, — подумал Максимов. — Пойду».
7.
У Лялиных сегодня пластинок не пожалели, прокрутили их по два раза. Старший лейтенант отплясывал так, что вспотел до корней волос. Левую руку по привычке держал полусогнутой перед грудью, будто боялся разбередить недавно зажившую рану. Девки в избе тоже оберегали его, не подступали близко с этой стороны. На гармошке теперь наяривал не Сергуша, которого наконец взяли в армию, а совсем сопливый мальчишка, но выводил так заливисто, разухабисто, что нравился куда больше.
«Вишь, пришел! — думала тощая Раиса, в танце разбрасывая в стороны длинные руки. — А может, и правда приехал, только чтоб документы уточнить? Может быть, он ничейный?» Ей очень хотелось верить в это, и мерцали в голове краткие видения — треугольное письмо: «Здравствуй, дорогая Раиса! Передаю фронтовой привет тебе, матушке твоей уважаемой Алевтине Григорьевне, отцу Иннокентию Прохоровичу, деду Степану и Лиде, твоей сестре...»
Лиду нынче и упрашивать не пришлось сплясать цыганочку. Вышла на середину комнаты в цветастом своем платке, растянула его углы, начала притопывать то носками туфель, то каблуками да сверкать улыбкой и глазами, нарезать круги, прижимая весь народ к стенам. Она не успела еще закончить, когда Раиса под шум сказала Максимову:
— Фу, жара! Не хотите ли проветриться? Перекурить?
— Да, пожалуй.
Они протиснулись к двери и вышли вдвоем во двор. Чтобы не простыло потное тело, пришлось набросить ей — телогрейку, ему — шинель.
— Какая мерзопакостная погода! — сказал, закуривая, Максимов.
— А вы надолго к нам?
— Вряд ли.
— А что так? Побыли бы тут подольше, — начала наводить мосты Раиса. — Погостили бы... Вы же к Иканиным?
— Что мне там гостить? — недовольно сказал лейтенант. — Муж вернется с войны — он и пускай гостит.
— Какой еще муж? — вырвалось у Раисы.
— Анин. Тот, от кого ребенок.
— А, ребенок... — сказала Раиса.
Потом не удержалась и вставила:
— А вы были там, на войне, в плену?
— Нет.
— А она была.
Максимов поперхнулся дымом. Даже не попрощавшись, он рванулся к выходу со двора и чуть не вышиб в темноте щеколду дощатых ворот.
Черная ночь окружила со всех сторон деревню Верхнее Лысково. Кое-как ориентируясь по силуэтам домов, Максимов пробирался вдоль нужной улицы. Раскисшая трава цеплялась за голенища, распутица заставляла спотыкаться, оскальзываться. Он чертыхался. От волнения и нервного напряжения утомился сильнее, чем от самого пути. У крыльца Иканиных остановился, необходимо было передохнуть. Сердце билось так, что, казалось, прямиком ударяло в виски.
«Она была в плену! Что ей довелось пережить? Даже вообразить страшно!»
Он, тяжело дыша, смотрел на дом Анны, дом в ответ тоже глядел на него тремя окнами без всякого в них просвета.
«Как же так? За что?»
Та девчонка, что тащила его, окровавленного, по бесконечному полю и твердила: «Родненький, потерпи!» — и в плену?!
«Кто устроил так? Для чего это он устроил? Неужели нельзя было иначе?» Максимов глядел вверх на темный купол неба, на ветки кустов, деревьев, на свои ладони — и ответа не находил. Отерев лицо от измороси, он решительно пошел в дом.
Анна еще не спала. Услышав, что гость вернулся, одетая встала с кровати, вышла из маленькой комнаты и зажгла свечу.
— Мы тебе постелили на полатях, — шепотом сказала она.
— Не надо, не надо свечку, — заговорил Максимов срывающимся шепотом. — Аня, нам нужно поговорить. Недолго. Выйдем во двор!
— Ну хорошо, — с сомнением сказала она. — Но только одну минуту.
— Помнишь тот день, когда... — начал он тотчас же во дворе.
— Тише! Не во весь голос! Соседей разбудим.
Он попытался сдержаться и говорить спокойней:
— Я его так запомнил! Бесконечное это поле. И ты. И твои слова — что родной... Я понимаю, это говорят всем: «Родненький, потерпи!» Но ты говорила так, что... прямо в сердце! Я почувствовал, что действительно я родной, вернее — ты родная мне, мы с тобой — друг другу. И когда ты меня волокла по земле, надрывалась и плакала от бессилия — подумал: я женюсь на тебе. Если выживу — я женюсь!
Ночью снаружи было свежо. Анна зябла, стиснула в кулак ворот плюшевого жакета на груди, прижалась спиной к бревенчатой стене дома.
— Ты себе все придумал, — вымолвила она.
Нависая над ней, плохо видимый в темноте, он говорил, что каждый день только о ней и думал и хоть не мог рассчитывать, но верил — случится чудо и они встретятся, непременно встретятся. Ну и вот!
— Ты все выдумал, — возражала она.— Все, все, все...
— Я каждый твой взгляд и слово тысячу раз вспомнил! Без тебя для меня на свете жизни нет. Ты одна нужна мне, других не надо!
Он шагнул к ней ближе, но она отстранилась, наткнулась в темноте на его руку, жесткую, словно металл. Максимов испугался, что Анна решит, будто он хочет удержать ее силой, и немедленно отступил, отпуская ее на волю. Почувствовав, что свободна, она передумала убегать.
— Ты ничего не знаешь обо мне. Ведь у меня ребенок...
Он глухо ответил:
— Знаю, — и добавил: — Я в обиду тебя не дам!
И потом еще говорил, что дети не виноваты, что все мы равными приходим в этот мир — званые и незваные; и почему-то твердил, что не надо быть крокодилами; обещал, что будет относиться к ее сыну как к своему. Анна не вслушивалась в слова, но ей хотелось, чтобы речь его длилась дольше. В памяти осталась стальная сила его руки, неуступчивость его мускулов, и верилось, что он и правда будет защитой и ей, и ребенку.
Мать отворила дверь, отступила и позвала через сени:
— Аня, простынешь! Иди домой!
Она ответила:
— Сейчас! — но все не уходила.
Максимов тоже начал переживать:
— Ты простудишься! — приблизился, и дыхание его было теплым.
Они вернулись в дом и до утра шептались, сидя рядом возле печи. Он рассказывал о себе, о жизни в Кирове, о своей матери, об учебе. Он окончил пехотное училище перед войной и три раза маршировал на парадах.
Она рассказала ему о школе, о странном учителе математики, который ставил «кол» на всю страницу и которого с урока увезли в сумасшедший дом, о прополках, где борозде нет ни конца ни края. Говорила, что на соревновании обогнала половину парней, когда в финскую войну кинули клич: «Комсомольцы — на лыжи!»
Лишь одного не могла рассказать ему — о том гоготе, о тех воплях, боли, ужасе, унижении. Что отбиться от фашистов ей не хватило сил. Не сказала. Ну и не надо.
Что-то сближало их все сильнее. И не только его нашивка на гимнастерке. Их у него две — красная и желтая. Красная ленточка — легкое ранение — связана с Анной, получается, она теперь всегда будет у него на груди.
8.
Утром Анна пошла провожать Максимова. Перед оврагом он произнес:
— Оскользнешься там, не ходи.
Стояли в начале спуска. Медлили. И впервые поцеловались.
— Возвращайся назад с победой. — Обязательно. Я вернусь, — негромко сказали они друг другу.
Через несколько дней в обеденный перерыв где-то по соседству раздался крик: «А-а-а!..» — громче, громче, потом затих.
Елена Абрамовна недовольно проворчала:
— Письмоноска опять подкинула! Вот ведь! У кого это заорали?
Она выглянула в окно, но не разобрала ничего и отправилась на улицу разузнать.
— Сергушу убили! — сказала она, воротившись.
Анна ахнула и прикрыла рот ладонью.
— Написали, немцы разбомбили эшелон, в котором новобранцев везли на фронт. Даже не добрался он туда, значит. Ранен осколком в грудь. Умер в госпитале в Баку.
Снаружи зашумели. Все ближе — сперва во дворе, а потом в сенях. В комнату ворвалась растрепанная соседка Вера Кузьминична, в руке ее был топор. Следом, пытаясь ее задержать, ввалились еще несколько баб.
— Где этот фриц?! Убью! — закричала Кузьминична, махнув на них топором, отчего они отшатнулись. — Убью! За сыночка, Сергушу моего, одного хотя б, а убью!
Бабы навалились на нее сзади, но она, крутнувшись и тряхнув спиной, скинула их с себя.
— Где этот рыжий гад?! — И направилась в комнату, где лежал ребенок.
Анна, опомнившись, прыгнула наперерез, вцепилась в топорище, закричала зачем-то:
— Он не рыжий уже, он русый!
Елена Абрамовна схватила ведро с водой, выплеснула в лицо соседке, чтобы та опомнилась. Кузьминична выпустила топор, обмякла, ссутулилась, бабы окружили ее и увели.
Через час Анна прибежала в правление, начала упрашивать председателя выделить ей лошадь с телегой: мол, ей надо уезжать, спасать своего ребенка.
— Какая лошадь в такую пору? Они и так еле ноги передвигают, окстись! — увещевал ее Добрынин. — До станции десять километров с гаком! А если она падет? Из-за тебя мне под суд?
— Иван Викулович! Ну пожалуйста! — твердила Анна и зачем-то добавила: — Вы же нас в школе учили!
— Хорошо, хорошо. Ладно, — сжалился председатель. — Отвезу твой багаж, только не на лошади — на велосипеде. Провожу тебя до станции. Иди, собирайся в путь.
Мать пыталась отговорить Анну:
— Куда ты с таким крохой? Все образуется, дочка, не уезжай!
— Нет, я решила. В Киров поеду. Кинусь в ноги его матери. Вова оставил адрес.
Возле берез, где привязанные качели, в начинающихся сумерках стояли две сестры Лялины, Раиса и Лидия, глядели, как бредет по поблескивающей от луж дороге, приближаясь к ним, председатель Иван Викулович с велосипедом. Один.
— Проводили? — спросила Раиса.
— Проводил, — ответил, подойдя к ним, утомленный Добрынин. — Народу на перроне! Это какой-то ужас! Бог даст, утром сядут на поезд. Погода какая, а? Дожди эти, будь они неладны... Столько работы — а тут дожди!
Раиса, вздохнув, успокоила его:
— Все будет хорошо, Иван Викулович.
— Будет все хорошо, — поддержала ее сестра.
«Пусть будет все хорошо в России в лето от Рождества Христова одна тысяча девятьсот сорок второе и впредь!» — мысленно взмолился Добрынин, бывший учитель истории.