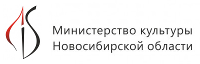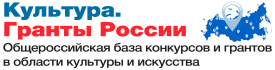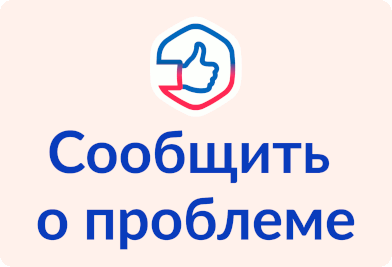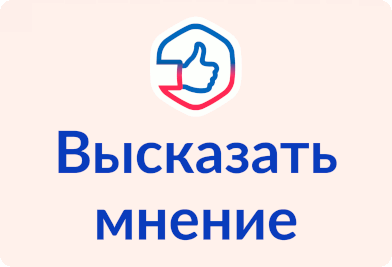Вы здесь
Особый счет Виктора Астафьева
В последнее время имя писателя Виктора Астафьева в основном ассоциируется с цитатами, которые широко распространяются в интернете, например, перед Днем Победы. Этакое лыко в строку всем тем, кто любит твердить о «победобесии». Многих тянет процитировать жесткие высказывания Астафьева о войне, цене победы, о патриотизме — этакий убийственный аргумент. Кто будет спорить с писателем-фронтовиком, почвенником?
«Те, кто врет о войне прошлой, приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее, натуралистичнее прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну показывать, а пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься» — все эти астафьевские слова звучат как безусловный моральный приговор. За ним идет следующая ступень в виде вопроса-утверждения: что вы все носитесь со своей Победой?!
Впрочем, война — не только кровь и смерть, она не только низменное в человеке раскрывает, но и возвышенное, а также преображает нацию. Но если все про гной твердить, то будет ли полученная картина правдивой или перекошенной на одну сторону?
Так же и с правдой. В перестроечной риторике требовали правду абсолютную, всю и без остатка. Получалось, что подобная «правда» скатывалась, например, в отождествление коммунизма с фашизмом. Вот и у Астафьева «правда»: впереди немцы, а позади заградотряд, а в этих тисках простые мужики, которые должны форсировать реку.
Перестроечные витии утверждали догматы своей «правды», которая как раз и сводилась к утверждению, что в стране свирепствовал самый настоящий фашизм. Что СССР в равной с Германией (а то и в большей, чем Германия) степени виновен в развязывании Второй мировой войны. Эта «правда» до сих пор бьет нас, дезориентирует, особенно ее проявления стали очевидны после начала СВО на Украине.
В годы советской перестройки утверждался императив абсолютной правды, отрицание частичной правды или правды полутонов. Делалось это якобы ради очищения общества. Все это открывало большие возможности для допущений и спекуляций. Правдоискательство приобрело формат навязчивого копания — до основания, когда открывается черная яма пустоты и нигилизма.
Советское правдоискательство трансформировалось в максимализм. Страна, победившая фашизм и ставшая одним из двух главных центров силы в мире, воспринимала себя близкой к этическому идеалу. Но это приводило не к насаждению своей картины мира, как это делал Запад, навязывая собственное восприятие демократии, а к сверхтребовательности к себе. К долженствованию соответствия самой высокой планке.
Несоответствие реальности этому образу влекло к самоедству, крайностям самоуничижения и самоотрицания. А тут еще и реальность сложнейшего века отечественной истории — периода смут и трагедий, необычайных взлетов и потерь. Как объяснить его, не впадая в соблазн легких решений и кажущихся универсальными формул?..
«Постепенно нарастало “разочарование” в том, чем жили и во что верили; оно было неизбежным, ибо “совершенное общество”, которое вроде бы должно было создаться после Революции, — утопия», — писал отечественный мыслитель Вадим Кожинов.
Логика его рассуждений была следующая: Победа «оправдывала» Революцию. Дальнейшее «“разочарование” в плодах Революции для большинства людей означало “разочарование” в самом своем Отечестве». Все потому, что оценки производились с использованием критериев совершенного общества, с позиций максимализма — с ориентацией на подобие Царствия Божьего на земле. А если оно не получилось, если оно нереализуемо в принципе, то зачем тогда все?..
Советские люди, горящие этическим максимализмом, легко попадали на этот путь, который подводил их к заранее подготовленным ответам. В перестройку и пошло это ускоренное переформатирование в рамках новой идеологической доктрины в русле самоумаления и принятия всех грехов мира на себя.
***
Перестройка — стихия обольщения. Это история соблазнов и введения в искушение.
Так, писатель Владимир Личутин говорил, что перестроечный азарт общества — «желание воли, напоминающее опой и безумие». Тогда архитекторы перестройки, отмечал писатель, принялись «варить смуту», производить «умело созданный хаос», устраивать «ловушку» для русского народа.
Лукавые начинали «величить грешное, но стаптывать под ноги, предавая иронической ухмылке, все заповедное, чем крепилась Русь в веках, и, будто в насмешку, призывать народ к покаянию». Люди же «отравлялись мстительным бредом» и сходили с ума. Обычный сценарий раскола, который производился «по старым проверенным лекалам»: «...терзают русскую душу неопределенностью, уверяют, что больше так жить нельзя...»
Тот же Личутин отмечал, что все расколы в России затевали верхи, соблазняя этим простого человека, который «своей неизживаемой смутной мечтой о Беловодье (земном рае) невольно потакал смутителям, попускал перемены в стране».
Такое ощущение, что Виктор Астафьев завяз, так и не выбрался из тех самых перестроечных топей. Он был открыт всей той риторике через нравственно-этический максимализм, через правдоискательство, через скепсис по отношению к человеку, которого он разным повидал.
Схожее с Астафьевым мировосприятие было у Федора Абрамова, но он ушел незадолго до перестройки.
«Мы не имеем права замалчивать, упрощать все сложности и трудности нашего исторического пути. Не объясним мы — объяснят другие, только объяснят по-своему. Мы не скажем своим голосом всей правды — скажут другие “голоса”, только скажут по-своему», — рассуждал Абрамов в своем «Слове в ядерный век», написанном в 1981 году.
Ту же перестройку он бы, скорее всего, принял. Она обещала ответить на многие его вопросы, поставленные задолго до нее. Но ответы очень быстро трансформировались в новую идеологию, оправдывающую очередной отечественный раскол.
Федор Абрамов и многие другие писатели-деревенщики как раз являли ту версию созидательной перестройки или преображения общества, которая вполне могла бы быть реализована. Они вели любовный разговор, исполненный чувством Родины, потому что «только люди с пустой душой теряют сыновнее чувство Родины». Так и произошло в перестройку, когда вскрылась и проявилась эта пустота.
Предупреждал Абрамов и о том, во что превратится «нравственный максимализм» русского человека вкупе со спешкой реализации его идеалов: в «стремление во что бы то ни стало разрешить, и разрешить немедленно, сию минуту, все “проклятые” и вечные вопросы человечества». Подобным зудом и стремлением к максимальному ускорению процессов вскрытия «правды» во многом и характеризуются перестроечные годы. Считалось, что любое промедление предательству подобно, а торможение — главный враг перестройки, одним из лозунгов которой было «ускорение».
«Мой соплеменник — и вечный странник, искатель, и неисправимый идеалист, и интернационалист, носитель идеи всемирного братства», — утверждал Федор Абрамов в одном из интервью. Все эти запросы и обещала удовлетворить перестройка, а также через новое мышление устроить всемирное братство. Так она соблазняла.
Люди, влекомые души прекрасными порывами, видели в существующей реальности несоответствие идеалу. Подключался максимализм, и начинали говорить об ошибке, эксперименте, о повороте не туда, за которым скрывалось чудовищное. Так в советскую перестройку благими намерениями была вымощена дорога к разрушению и нигилизму.
***
Самый цитируемый сейчас свой роман «Прокляты и убиты» Виктор Астафьев писал в начале 90-х, он так и не был завершен. Но практически сразу получил премию «Триумф», а в 1995 году и Государственную премию. После и сам писатель заявил, что прекратил работу над книгой. Сейчас она наиболее известное произведение писателя и к тому же на слуху — в силу идеологической наполненности.
Это, по сути, сумма перестроечной идеологии и «знаний» о России, ее истории. Человек, работающий над этой книгой, не мог не подписать в октябре 1993 года печально знаменитое обращение творческой интеллигенции к согражданам, получившее название «Раздавите гадину!».
Перестроечная идеология сформировала особую оптику, через которую Россия, в особенности в советский период ее истории, воспринималась средоточием греха и порока. Действовал императив скорого и безусловного очищения и исправления, причем любой ценой. А тут такое препятствие на пути молодой демократии к светлому и чистому. Именно что «гадина». Потому подпись Астафьева и фигурирует под воззванием современной инквизиции, новым «Молотом ведьм».
«Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии», — говорилось в том воззвании за подписями 42 деятелей культуры, в основном либерального толка.
Эхо расстрельных списков 30-х с тем же образом «гадины», с тем же максимализмом и жаждой исправить несовершенный и погрязший в грехах мир? Очень похоже. Девяностые вообще рифмуются с тридцатыми. И понять ту же репрессивную логику можно в сравнении.
Их роднит страсть к ускоренному преображению, изменению общества, избавлению его от ветхих риз старого.
То воззвание-манифест фиксировало систему, при которой формировалось постсоветское культурное пространство. Главенствующее положение занял принцип социальной сегрегации и монополизма. Культура стала достоянием элиты, хозяев, посвященных, противопоставивших себя остальному народу. Его представителей иногда подпускали, чтобы заполнить квоту «голоса низов», произведя их полное переформатирование. В том послании подпись Астафьева как раз и была необходима для демонстрации этого «голоса».
В 1995 году в интервью «Литературной газете» Виктор Астафьев говорил о прививке «противоестественного» России в виде революции. Она, по его словам, принесла «порчу». Это из ведьминского арсенала. Ведьм — с уточнением: «красно-коричневые оборотни» — вспоминали в том октябрьском послании.
«Мы даже не понимали, какой порче подверглись», — отмечал писатель. Порчей воспринимался весь советский период отечественной истории, который трактовался через образ «могильной плиты». Чтобы ее преодолеть, необходимо восстановить «привычку к прежней жизни, какое-то согласие с ней». И, безусловно, разобраться с «ведьмами» и их происками.
Мысль об этой порче проявляется и в романе «Прокляты и убиты», где развертывается подобие старообрядческой логики о царстве Антихриста. В канун Рождества «многие из ребят... не знали, что близится великий праздник, потому как приступила, притиснула к холодной стене их безбожная сила и порча, были они еще в младенчестве согнаны со двора в какую-то бессмысленную, злую круговерть».
Отсюда и нагнетание ощущения тотальной ошибки или царящей неправильности. Война в таком контексте мыслится ее логическим следствием, неизбежной карой. Она — стихия падения и гниения. Человек, попадающий на нее, будто «вляпался руками в разложившийся труп».
Наши знания о войне — ложны. «Об этой войне столько наврали, так запутали все с нею связанное, что, в конце концов, война сочиненная затмила войну истинную», — отмечал писатель в книге «Прокляты и убиты».
Это важно зафиксировать. Напомним, Вадим Кожинов как раз писал, что Победа стала оправданием Революции. Поэтому и производится переоценка Победы, постепенно меняется наше представление о ней, чтобы окончательно низвергнуть и Революцию.
В романе символ России — осиповское хлебное поле: «...разоренное, убитое, — как оно похоже сейчас на смутой охваченную отчизну свою, захиревшую от революционных бурь, от преобразований, от братоубийства, от холостого разума самоуверенных вождей, так и не вырастивших ни идейного, ни хлебного зерна, потому как на крови, на слезах ничего не растет — хлебу нужны незапятнанные руки, любовно ухоженная земля, чистый снег, чистый дождь, чистая Божья молитва, даже слеза чистая». Реальность несовершенна, ошибочна, что с ней церемониться?
По этим же причинам Астафьев высоко ценил «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, про который говорил, что это «не только огромное произведение, но и обвинительный приговор жестокому времени и насилию. И нам тоже. Своим терпением мы потрафляли насилию». Работу Солженицына называл «путеводной звездой». И, конечно, в своих обличениях в полной мере ориентировался на опыт Александра Исаевича.
***
В самый разгар президентской кампании 1996 года, когда стране предлагали вновь выбрать практически недееспособного Бориса Ельцина — в противном случае сулились многие беды и несчастия, — в одной из самых популярных телепередач того времени «Час Пик» было показано интервью с Виктором Астафьевым. Его журналист представил «русским писателем». Тогда подобная атрибуция автоматически ассоциировалась с красно-коричневым, маргинальным, но для Астафьева было сделано исключение. В той ситуации он был нужен именно в качестве русского писателя. Голос низов, говорящий нелицеприятное тем самым низам.
В интервью Виктор Петрович говорил, что не знает более «мерзкого действа», чем война. Отмечал, что Господь наказывает войной. Утверждал, что «мы больны очень давно», и надежды на возрождение России связывал со старообрядчеством.
Журналист спрашивал писателя, как могут люди, прошедшие войну, теперь собираться под красными знаменами? Ответ состоял в том, что они «гнулись всю жизнь» и раболепствовали. Писатель развивал свою мысль, будто бы народ сам виноват во всех бедах, будучи соучастником, а также развращенным за годы советской власти. Употреблял слово «народишко». Говорил про необходимость покаяния и розог.
Но самым удивительным было то, что писатель, говоря сколько народа бедствует, настаивал на цифре в пять-шесть процентов. И это в 1996 году, писатель из российской глубинки... Казалось бы, как такое могло быть, но вот могло. Цифру эту свою защищал и отмечал, что не больше, а все остальное — коммунистическая пропаганда.
Конечно, все это вписывалось в общий контекст не только пиар-кампании Бориса Ельцина, но и идеологии того времени. Деятели культуры, допущенные к широкой аудитории, делали все возможное, чтобы не омрачать завоевания молодой демократии. Отсюда и весьма специфическая арифметика, которая озвучивалась устами «русского писателя». Тогда писатели еще имели достаточно большой вес в обществе. Но, в том числе через подобную арифметику и речи, они его растрачивали, обнуляли.
***
«Сила ненавидящего слова так велика...» А это уже из адресованного Виктору Петровичу письма Натана Эйдельмана, который выделял «расистские строки» в астафьевских произведениях. Инициатор знаменитой переписки, состоявшейся на заре перестройки, в 1986 году, отмечал, что «крупица правды, использованная для ложной цели, в ложном контексте, — это уже неправда и, может быть, худшая».
Не исключено, что эхо той переписки отразилось на астафьевской мотивации поддержать в октябре 1993 выступление либеральной интеллигенции.
Невозможно представить среди подписантов пресловутого «Письма сорока двух» Юрия Бондарева, Александра Проханова, Владимира Личутина, Валентина Распутина, Василия Белова. Все они оказались на другой стороне, объявленной маргинальной.
У Виктора Петровича — развитие собственной оптики, плюс чувство вины за те упреки, попытка легитимизации, чтобы не быть записанным в стан красно-коричневых? А ведь переписка с Эйдельманом до сих пор ассоциируется с именем писателя, и эта ассоциация одна из прочных. Напомним, Натан Эйдельман в одном из своих писем, упрекая Астафьева, говорил о «логике “Майн Кампф” о наследственном национальном грехе». Не исключено, что те упреки, вкупе с перестроечным обольщением, подвели писателя к тому, что у него подобие старообрядческого максимализма слилось с либеральными идеологическими конструкциями.
Критик Алексей Колобродов в статье к 95-летию Астафьева писал: «Мизантропия и провела Виктора Петровича через последнее его, столь роковое для страны десятилетие, и с тогдашней властью породнила писателя не только ненависть к советскому периоду (не устроившему Астафьева именно своим прогрессизмом и гуманизмом), но и общая презрительная настороженность к людям».
Эта мизантропия проявлялась еще и в духе старообрядческого неистовства уже в ранней повести «Стародуб» (1960 год), с позиционированием инаковости, чуждости социуму, миру людей, деревне.
В повести он рассуждал о бескрылости человека, о необходимости изменений «в миру у людей».
Речь шла о противостоянии, непонимании природного человека и социума. Одиночки и толпы, «задавленной голодом, озлобленной суеверным страхом».
«Сдвигается толпа вокруг охотника, точно лес в ненастье. Полегоньку, будто бы ненароком, еще трусовато, но смелея от страха, подталкивают кержаки охотника к краю могилы. Бабы с особым усердием крестятся. Расширяются глаза у людей. От бешенства кривятся, бледнеют губы. На тупых, испитых лицах судорога. Да и нет уже лиц, есть маска, как бы высеченная из камня. И в складках этой маски тысячелетняя боль, смешанная со страхом и злобой», — писал Астафьев в повести. Не исключено, что именно этот образ мог вспомниться автору «Печального детектива» во время подписания октябрьского воззвания.
Есть у Астафьева рассуждения о вырождении человека и в повести «Перевал». Ответы на все эти вопросы давались в идеологической системе перестройки, утвердившей постулат об убывании генетического потенциала нации, об уничтожении души народа. Виновна в этом якобы советская идеология и безбожная власть, которая сделала ставку на «жажду новых открытий, богатств. И все по трупам, все по крови!» Плата за стремление к свободе, к «просвещенному разуму» известна — миллионы жизней. Вот и получается, что «в крови по шею стоит человек, глазом не моргнет» («Пастух и пастушка»). И это касается не только германского солдата, пришедшего в снега России, но и человеческой природы вообще, прогресса.
Впрочем, бумеранг человеческого дальше летит к отечественному, которому предъявляется особый счет.
«Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечишки, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будто вниз по речке плыть» — известные рассуждения Виктора Петровича из «Печального детектива» — книги, раскрывающей этот тезис на примерах и писавшейся в годы, непосредственно предшествующие советской перестройке (1982—1985).
Схожие мысли есть и в романе «Прокляты и убиты»: «В героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни».
В предперестроечном «Печальном детективе» представлено буйство внутреннего зверя, который все сильней прорывается наружу, через вырождение человеческой природы. Этому противостоит современный Дон Кихот — милиционер с тягой к творческому Леонид Сошнин. Но его уже подпирают — как в «Стародубе» подталкивают охотника к могильной яме — и с другой стороны: «Новая эра жизни надвигается!» В романе эту эру провозглашает Володя Горячев — баловень судьбы, большой человек при больших должностях, рассуждающий: «Мы не воруем, мы экономим».
Пройдет совсем немного времени, и все увидят, что главными субъектами этой новой эры как раз и станут зверь и жулик. При помощи либеральной интеллигенции они оградятся от таких, как Сошнин, тем же манифестом «Раздавите гадину!».
Это новое время раздавило и Виктора Петровича. Сначала он что-то повторял за ним, полагая, что именно так болезненно и пробивается правда. А затем... ушел в подобие внутреннего старообрядческого скита.
Если бы была необходимость в формуле, которая объясняла бы его метания, то вполне годится фраза из повести «Звездопад»: «Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом...»
Он, на самом деле, не умел сказать именно об этом, поэтому часто говорил о чем-то другом, серчал, гневался, путался и заблуждался, но любил. Эта любовь и формировала его особый счет, который он предъявлял людям, своей стране.