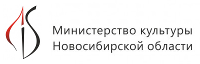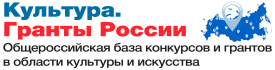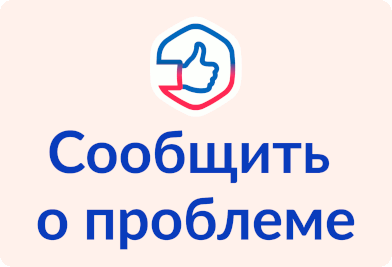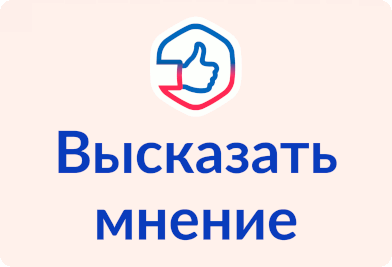Вы здесь
Разговоры с экипажем, или Кого взял бы на свой ковчег Геннадий Прашкевич?
Читая новую книгу новосибирского писателя1, вдруг явственно ощутил, что именно нас крепко связывает. Помимо любви к фантастике и книгам. Мы оба родились и провели детство в районных центрах Красноярского края. Прашкевич в селе Пировском (около трех тысяч жителей), я — в селе Бея (около четырех тысяч жителей). Прашкевич пишет о том, что в селе было много ссыльных (в разные времена). В Бее их тоже хватало, тут жила некоторое время Е. Д. Стасова, соратница Ленина, и семейная легенда гласит, что мой дед даже передавал что-то от нее Ленину в Шушенское (это 50 километров по прямой, но через Енисей), где тот отбывал свою ссылку.
Параллели можно множить. Мы читали жадно и всё подряд. Не только художественную литературу, но и книги о науке, о путешествиях, об астрономии и космосе. Конечно, круг чтения у нас несколько отличался, прежде всего потому, что я младше на десять лет, и возможности для знакомства с новинками в 1950-х и в 1960-х годах существенно различались. Я бы даже сказал, что мы читали совершенно разную фантастику в те годы. Но у нас было кое-что и общее — классика: книги Жюля Верна, Герберта Уэллса, Александра Беляева. Много позже Геннадий Прашкевич отдаст дань некоторым из этих авторов, написав о них свои биографические книги.
Но было, пожалуй, одно направление, в котором юный Прашкевич преуспел и превзошел меня. Дело в том, что острая нужда в общении подвигла школьника писать письма самым разным писателям и ученым. Фрагменты этой его полувековой переписки вышли отдельным изданием в 2021 году под названием «Портрет писателя в молодости», в котором Прашкевич прокомментировал письма И. Ефремова, братьев Стругацких, профессора Н. Н. Плавильщикова, В. Астафьева, Ю. Семёнова и многих других. По каким адресам отправлял свои письма ученик тайгинской школы № 2, история умалчивает, но факт остается фактом: письма доходили до адресатов. И самое удивительное: весьма известные люди находили время, чтобы ответить школьнику!
Жаль, что у Прашкевича не сохранились его собственные письма; мы можем судить о их содержании лишь по ответам его собеседников по переписке. Но история любит неожиданности. Совсем недавно минский исследователь творчества Станислава Лема Виктор Язневич обнаружил в архиве польского писателя вот такое письмо.
Здравствуйте, уважаемый товарищ Лем!
Я решился все же написать вам письмо, будучи почитателем вашего таланта. Я прочел ваших «Астронавтов». Вы обладаете чудесным даром — воображением. Будучи соединено с вашими научными знаниями, оно дает такие результаты!
Я не знаю — дойдет ли мое письмо до вас. Если дойдет, я очень прошу ответить на некоторые мои вопросы. Мне 17 лет. Я живу в Западной Сибири. Но тем не менее до нас доходят ваши вещи. Я очень увлекаюсь литературой и мечтаю стать писателем. В составе экспедиции Палеонтологического музея Академии наук СССР я совершил несколько больших поездок по всей стране. Я много видел и много читал. Это дало мне возможность напечатать ряд рассказов — бытовых и фантастических, и также ряд популярных очерков. Если вы заинтересуетесь, я вышлю вам кое-что из моих рассказов.
Я хочу попросить вас вот о чем:
1. Расскажите о состоянии научно-фантастического жанра в Польской Народной Республике.
2. Расскажите о вашей жизни. Хотя бы кратко и об основных ваших произведениях.
3. Если возможно — вышлите вашу фотокарточку и что-нибудь из ваших книг.
Простите, если вас это в чем-нибудь затруднит. Я бы очень хотел переписываться с вами.
С нетерпением буду ждать ответа.
С приветом!
Геннадий Прашкевич
К сожалению, сам Геннадий Прашкевич сейчас не помнит, получил ли ответ от польского мастера, во всяком случае, при разборе своих архивов он не нашел писем от Лема (впрочем, разобраны эти архивы пока не полностью, и кто знает, что в них еще обнаружится). Через двадцать лет, в 1978 году, он пошлет Лему уже свою книгу — «Разворованное чудо», с посвящением: «Пану Станиславу Лему — учителю». И Лем эту книгу получит и пришлет благодарственное письмо.
Но это будет потом, а пока юный Прашкевич широко открытыми глазами пытливо всматривается в окружающий мир, получая от своих именитых корреспондентов не только советы, но и серьезные поручения.
Вот что писал Иван Ефремов 23 апреля 1957 года (Прашкевич жил тогда на станции Тайга):
Что вы собираетесь делать летом? Наш музей мог бы дать вам одно поручение: посмотреть, как обстоят дела с местонахождением небольших динозавров с попугайными клювами — пситтакозавров, которое мы собирались изучать в 1953 году, но оно было затоплено высоким половодьем. Это в 90 километрах от Мариинска, который в 150 км по железной дороге от Тайги. Если есть возможность попасть туда и посмотреть — срочно напишите моему помощнику Анатолию Константиновичу Рождественскому о том, что вы могли бы посетить местонахождение. Он напишет вам подробные инструкции и советы что надо делать.
И ведь поехал тайгинский школьник искать динозавров (с попугайными клювами!), да не один, а с двумя сверстниками. Неважно, что самих пситтакозавров они не нашли (опять был высокий уровень воды), зато нашли многочисленные следы стоянки людей каменного века. А параллельно Прашкевич пробовал силы в литературе. Сразу в трех направлениях: писал стихи, фантастические рассказы и очерки о науке. Первые публикации вышли в газете «Тайгинский рабочий»: научно-фантастический рассказ «Остров Туманов», очерк «В поисках динозавров» и романтические стихи. После участия в следующей научной экспедиции (в Пермскую область), где будущий писатель нашел кость эстемменозуха — крупного травоядного динозавра, он принес в редакцию «Тайгинского рабочего» стихи об этом удивительном животном. Эти стихи печатать не решились, но Прашкевич не расстраивался:
Ну и ладно. У меня и другие стихи были.
Например, об аномодонтах — на их броне мох рос.
И о териодонтах были у меня стихи, не дай бог встретиться с этими хищниками на узкой тропинке. И о загадочных диссорофидах я писал. Они были толстые и короткие, как сардельки. Из их толстых шкур можно было сапоги тачать, только все эти звери вымерли. А жалко. Вдоль всей спины диссорофида тянулся высокий кожистый парус. Приручил таких — и устраивай парусные гонки...
Собственно, эти три направления — поэзия (как своя, так и переводы с корейского, болгарского, сербохорватского), публицистика и проза (фантастическая, реалистическая, историческая, детективная) — стали для будущего литератора главными на всю дальнейшую жизнь. В одном интервью Геннадия Прашкевича я нашел такие слова: «Писатель, он как троякодышащая рыба. Он должен дышать так, вот этак, и еще вот так». Вот он сам так всегда и дышит, по-разному. И соответственно пишет.
Наверное, как и любому пишущему, Геннадию Прашкевичу неоднократно казалось, что у него ничего не получается, что ему никогда не удастся создать что-нибудь стоящее. Мне интересно было узнать, когда он впервые осознал, поверил, понял, что может писать по-настоящему? Что послужило основным показателем этого? Может быть, кто-то авторитетно подтвердил это? Как это произошло?
На мои вопросы писатель честно ответил:
Чувство провала — очень нужное чувство, иначе не пройдешь по натянутому канату. Я помню, с каким страхом перечитывал рукопись «Белого мамонта». Кто это будет читать? Помню, как несколько лет не отпускал от себя рукопись «Секретного дьяка». Ну, кому нужна вся эта история? Как долго писал я свои книги об ученых, писателях и фантастах, часто не получая вообще никакой помощи. И только после первых отзывов начинаешь понимать, что все-таки получается. Хотя есть и исключения. Скажем, «Божественную комедию» я написал на одном дыхании и сразу знал, что все получилось, то есть получилось так, как я хотел. И Борису Натановичу [Стругацкому] я отослал рукопись с полным сознанием того, что он это примет.
И он принял.
Юность моя пришлась на годы ужесточения всех тем в литературе. Я не печатался, а то, что появлялось, вызывало в печати самую резкую отповедь. Рецензии московских писателей были невыразимо злобны, будто я и правда подрывал основы их существования. Но время от времени совершенно разные люди вдруг выражали свое одобрение, даже восхищение иногда: Виталий Бугров, Зиновий Юрьев, Валентин Катаев, Юлиан Семенов, Александр Бирюков, Георгий Гуревич, Аркадий Стругацкий. И все же я помню, как больно было чувствовать себя постоянно на обочине дороги, по которой катили удивительно уродливые арбы...
В конце шестидесятых на Сахалине я написал повести «Ильев. Его возвращение» и «Мыс Марии». Сотрудники нескольких московских журналов, отказавшись печатать предложенное (по причинам далеко не литературным), в частных письмах поздравили меня с успехом. Не странно ли? Но это поддержало меня необыкновенно... Уже в начале семидесятых я твердо знал, что будут меня печатать или нет, я продолжу это прекрасное занятие — писать книги. Просто нужно было распределить силы на большую дистанцию.
Дистанция действительно получилась длинной.
Жизнь Прашкевича — это практически новейшая история нашей страны.
Как-то, более десяти лет назад, я попросил его кратко охарактеризовать каждое десятилетие прожитого, 1940-е, 1950-е годы и далее: какими они были именно для него, чем запомнились, что было в них хорошего (и наоборот)?
Прашкевич откликнулся:
40-е годы — ужасное желание хоть что-нибудь съесть, вечное недоедание, зато в Когизах книжечки копеечные — о происхождении жизни, о вулканах, о доисторических животных... Из провинции мир виднее... Необыкновенно ярко виделось будущее...
50-е — школьная жизнь, девчонки, библиотеки, чтение при свете керосиновой лампы, невесть откуда приходящая приступами тоска: мир огромен... так хочется увидеть его... но недоступен он, недоступен... по самым разным причинам...
60-е — отчетливое понимание того, что чем больше знаешь, тем интереснее жить; и параллельно — отчетливое понимание того, что окружающим далеко не всегда нравится то, что ты что-то знаешь и понимаешь лучше них... Серьезное отношение к переменам, происходящим в стране... Окончательное понимание того, что мир, конечно, закрыт... и уж совсем закрыт после того, как была уничтожена цензурой первая моя поэтическая книжка...
70-е — понимание, что самое прекрасное в жизни — это своя работа, для своих мозгов, а одновременно для всех... Понимание того, что своим успехом можно не только раздражать окружающих, но и радовать...
80-е — ужасное понимание того, что огромные системы в мире меняются вовсе не по твоей воле, а значит, единственный способ работать — не как все, а лучше, и даже не лучше, а лучше всех... Эпоха больших друзей, придерживавшихся примерно тех же взглядов...
90-е — понимание того, что мир революций — это мутный и страшный мир, и если ты хочешь устоять, удержаться в нем, то работай, как ты умеешь, не подчиняйся чужим мнениям, отстаивай свои взгляды на мир, — эпоха большого понимания необратимости почти всех процессов...
XXI век, нулевые, — мир открыт, и, если ты от души работал, ты не утонешь, ты получишь все те удовольствия, о которых мечтал в юности... Путешествия, любовь, работа... Наслаждайся свободой, открытым миром, работой, друзьями, подступающим одиночеством и пониманием того, что ты начинал понимать уже в 40-х...
Почему новая книга Прашкевича называется «Судовая роль»? Почему именно так?
Да потому, что в ней или прямым текстом, или метафорой жизнь человеческая уподобляется ковчегу, на котором все мы плывем в неизвестное, именуемое будущим. Тому самому ковчегу, в котором каждой твари по паре. А на любом судне, как известно, должна быть судовая роль — основной документ, содержащий точные сведения о количестве и составе экипажа при приходе и отходе судна. Вот писатель и попытался рассказать о тех, с кем он встречался на этом плывущем в будущее корабле, о чем с ними толковал, кто и чем ему особенно запомнился. Встреч было много, и собеседники попадались Прашкевичу самые удивительные, всегда интересные. Некоторые становились даже соавторами. Писатель вспомнил, конечно, не всех, но многих, начиная с одноклассников. Результаты общения с этими собеседниками часто приводили к написанию новых произведений. Иногда это видно явно, иногда — совсем не видно, и нужно провести настоящее расследование, чтобы понять, «из какого сора» выросла та или иная вещь. В новой книге писатель решил помочь возможным своим исследователям. Оглавление снабжено примечанием: «В скобках указаны произведения автора, замысел которых связан с описываемыми в главках событиями». Да, просто внимательно читай, сопоставляй, и тебе откроется истина. Но должен заметить, что подсказки автора не так просты, как кажется. Иногда мысль твоя должна проделать сложные кульбиты, чтобы понять, какие, собственно, связи имел в виду автор...
А иногда и это не помогает.
Казалось бы, книга-воспоминание не должна содержать никакой фантастики и просто рассказывать о том, что когда-то произошло. У обычных мемуаристов так и ведется, как правило. Но мы-то имеем дело с необычным. Вот случай из жизни автора, который произошел в южно-сахалинском кафе «Алые паруса» в 1968 году. Собрались местные поэты, компания говорливая. Стихи, споры, музыка, разговоры. И вдруг к этой компании подошел незнакомец в полувоенном кителе с погончиками и сказал, что хочет купить одно из прозвучавших стихотворений. Зачем? «В две тысячи двадцать восьмом году, — медлительно и просто пояснил незнакомец, — проданное мне вами стихотворение войдет во все самые значительные антологии мира». Когда? В 2028 году? Молодым поэтам из 1968 года эта дата показалась невероятно далекой. Но почему бы и нет? Две бутылки коньяка, и стихотворение было продано. Правда, осталась интрига. Незнакомец ведь не сказал, какое именно стихотворение он выбрал, кто его автор. Сейчас до 2028 года осталось совсем немного. Сбудется ли предсказание незнакомца? О каком стихотворении он говорил? Вообще, кто этот незнакомец, почему вещал о далеком времени? Пришелец из будущего? Провидец грядущего? Нет ответов. Что ж, подождем.
Честно говоря, переход ко второй части книги, в два раза превышающей по объему первую часть, вызывает у меня затруднение. Да, в основе ее продолжение жизни автора, но она, эта жизнь, описана как бы пунктиром, как нечто второстепенное, а главным в ней стали собеседники автора, те самые, с которыми он сдружился на ковчеге. Их много, почти столько же (и даже больше), сколько и главок (а их около сорока). И каждый из участников судовой роли ковчега как-то причастен к тому, что писал сам Прашкевич. Кто-то советовал, а кто-то просто указывал. Вот Аркадий Стругацкий: «Кому, как не тебе, брат Геннадий, писать о черном монахе? Кому, как не тебе, богодулу курильскому, писать о своих ранешних и нынешних друзьях? Так что пиши. О монахах, землепроходцах, дикующих». А вот Кир Булычёв: «Ты напиши историю какого-нибудь потерянного сибирского народа. Есть же у вас такие? Или о Шамбале напиши. Книжка выйдет, раскупят ее, переиздадут, она тебя кормить будет, как домашняя корова. Или напиши про Гиперборею, или про Лукоморье, это тоже всем интересно. Или про страну Офир напиши, а то на нее наш друг гагауз Боря Штерн, я слышал, положил глаз. Но лучше всего, напиши историю Лемурии. Кому, как не тебе, писать об этом исчезнувшем материке? Напиши, в конце концов, о стране с молочными реками и кисельными берегами!» А вот необыкновенно интересные мысли о будущем высказывают то философствующий дворник из Минусинска Альвиан Афанасьев, то известный генетик академик Виталий Арнольдович Кордюм. А кто-то просто делится своими историями...
Ну а брат Геннадий не оценивал людей по внешнему лоску, по количеству титулов или наград. Он уже знал, что многое преходяще, что суровая история легко отбрасывает в небытие вчерашних кумиров. Его интересовали невыдуманные, настоящие мысли и идеи. Да и собственная жизнь тревожила. Были и рассыпанные гранки, и не вышедший первый сборник стихов, и уничтоженный тираж уже отпечатанной книги, и тираж книжки, сгоревший в разбомбленной луганской типографии...
В известной работе «Как стать гением. Жизненная стратегия творческой личности» создатель науки об изобретательстве Генрих Альтшуллер (он же — писатель-фантаст Генрих Альтов) писал, что творческая личность неизбежно встречает противодействие со стороны внешних обстоятельств, которые могут принимать самый разный облик и неизбежно мешать достижению задуманной цели. О том же писали братья Стругацкие в повести «За миллиард лет до конца света», в которой внешние обстоятельства именуются Гомеостатическим Мирозданием.
Как противостоять всему этому?
Один из героев повести Стругацких, ученый Филипп Вечеровский отвечает на указанный вопрос так: «Когда мне плохо, я работаю. Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета — пожалуйста: садись работать. Слава богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно, кроме бумаги и карандаша...» А старший из братьев-фантастов — Аркадий Стругацкий, когда Прашкевич пожаловался ему на то, что его книгу «Великий Краббен» цензура пустила под нож, так успокоил расстроенного писателя: «Ну, зарубили у тебя еще одну книгу. Плюнь! Не первая и не последняя. Не вздумай терять время на ее спасение. Садись и пиши новую. Пока пишешь, один редактор сопьется, другого выгонят, Госкомитет разгонят, сам режим сменится. Крикнут, где рукописи? Тут ты и появишься!»
Слушая рассказы Прашкевича об Иване Козыревском (в монашестве Игнатии), Аркадий приходил в восторг.
— Всё отребье мира! — торжествовал Стругацкий. — Кому, как не тебе, написать о брате Игнатии? Сколько ты сапог стоптал на островах? Ты и сам похож на этого монаха — длинный, к авантюрам склонный. Сколько раз советовал тебе Гиша [Георгий Гуревич] связывать фантастику с тем, что ты уже видел. Сколько раз я тебе говорил, пиши про своих курильских богодулов...
— Я написал. И где теперь тираж «Великого Краббена»?
— ...про сахалинских бичей... про девиц на сайре...
— А где теперь тираж книги «Звездопад»?
— ...и про путь в Апонию... — Он меня не слышал. — Ты же ходил по океану. Чуть-чуть не дошел до острова Мальтуса. Читаешь морские карты, таскаешь сорокакилограммовый рюкзак, умеешь разжечь костер под любым ливнем. И в рабочих у тебя, наверное, ходили убивцы. Козыревский — это же твой герой!
То, что Геннадий Прашкевич станет в будущем путешественником, он сам знал точно еще школьником. Знал, что объедет всю планету. Ну, пусть половину.
Первые шаги к хождению по всему миру Геннадий предпринял еще в Тайге, а затем — в новосибирском Академгородке, в котором живет с самого его основания. Участвовал сначала в экспедициях по приглашению Ивана Ефремова, затем — в различных геологических и палеонтологических экспедициях (Урал, Кузбасс, Горная Шория, Дальний Восток, Камчатка). А когда появилась возможность беспрепятственно выезжать за границу, Прашкевич использовал ее на полную катушку. Побывал и в Европе, и за океаном — в Америке, и на Ближнем Востоке. Но главным, любимым его местом надолго стал Индокитай. В том или ином виде впечатления от путешествий выливались в художественные или публицистические работы писателя. Впрочем, когда читаешь описание колоссальной гравитационной Воронки на морской планете Несс («Анграв-VI») или событий в нетипичной зоне Крайнего сектора, где главный герой пытается понять странную расу протозид («Костры миров»), умом понимаешь, что автор никак не мог там побывать, что все это результат его воображения, но детальность, подробность описанных им мест и событий невольно порождает сомнение: а может, Прашкевич действительно видел все это собственными глазами?
Ведь у него очень хорошее зрение.
Вот он рассказывает о своих беседах с Виталием Бугровым.
Я рассказал Виталию про кальдеру Львиная Пасть, где видел однажды странное существо, напоминавшее мне плезиозавра. Виталий сразу вспомнил М. Розенфельда, Г. Адамова. Вспомнил А. Палея. Показал редкое издание «Плутонии» Обручева — довоенное. Я рассказал об извержении вулкана Тятя, когда мир погрузился в дымную темноту и медведь-муравьятник в двух шагах от меня мыл лапами морду, думая, наверное, что ослеп. Виталий тут же вспомнил Жюля Верна и А. Беляева. «Вулканических» вещей в мировой фантастике много. Даже капитан Гаттерас гибнет в жерле вулкана. В ответ я не стал скрывать, что в Тихом океане на траверзе острова Мальтуса лично видел одного из китов, на которых стоит мир.
Ну, тут Геннадий Мартович немножко прихвастнул.
Потому что в одной из публикаций своих «Записных книжек» честно признавался:
Однажды на Кунашире в кафе «Восток» я пил бормотуху с богодулом, на полном серьезе уверявшим меня, что лет пять назад в Тихом океане (когда-то этот богодул был боцманом) при совершенно ясной погоде и трезвой памяти он видел тех самых трех китов, на которых стоит мир.
Впрочем, кто его знает, что там можно увидеть на траверзе острова Мальтуса? И когда, в какой из ветвей Мультиверса, кому именно там могут показаться киты, на которых стоит мир?
Кстати, знаете, почему случился всемирный потоп?
«Когда-то китов, на которых стоял мир, было четыре. Потом один сдох. Пока устанавливалось равновесие, мир здорово качало». Это я тоже нашел в «Записных книжках» Прашкевича.
...Геннадий Мартович любит водить гостей по новосибирскому Академгородку. Он все там знает. В один из последних моих приездов он повел меня к «мышке, которая всем гостям Академгородка вяжет варежки». Внутренне посмеиваясь, я не стал вслух высказывать своих сомнений. Знаю я Геннадия Мартовича: у него самое фантастическое неожиданно становится явью. И что же? В сквере у Института цитологии и генетики сидит мышка почтенного возраста, в очках на кончике носа, и действительно что-то вяжет. Правда, присмотревшись, можно понять, что вяжет она вовсе не варежки, а двойную спираль ДНК. Этот памятник лабораторной мыши поставлен в знак благодарности за вклад в изучение генов животных и разработку новых лекарств.
А чюхчи в сендухе до сих пор рассказывают детям сказку: летел гусь над тундрой, увидел внизу Прашкевича, сел рядом с ним, долго на Прашкевича смотрел, ничего в нем не понял и полетел дальше...
Впрочем, книгу свою новую сам писатель заканчивает очень даже понятными словами.
Чуден, прекрасен, свободен мир. Ничего не надо скрывать. Всем все прощено.
Я многому научился у своих собеседников. Давно и твердо знаю: все обязательно будут прощены, все непременно спасутся. Правда, как это ни грустно, собеседники уходят. Уходят и уходят.
Но их больше, чем мы думаем.
Потому я и работаю, не тороплюсь.
1 Геннадий Прашкевич. Судовая роль (Собеседники): Роман-воспоминание. — М.: Престиж Бук, 2024. — 480 с.