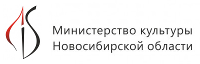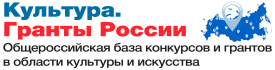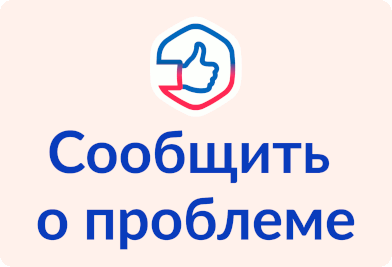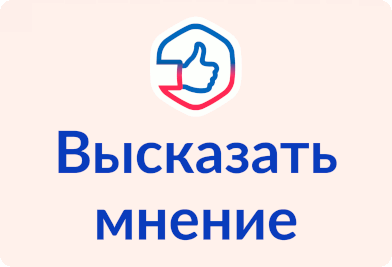Вы здесь
Зачем «Зачем поэзия»
В названии моих заметок отсутствует подразумеваемый вроде бы вопросительный знак, как отсутствует он и в заглавии книги Владимира Козлова — поэта, литературоведа, критика, создателя медиа о поэзии Prosodia. Думается, вопрос о смысле и предназначении поэзии из разряда «вечных» и требует не столько ответа (который вряд ли возможен, тем более однозначный), сколько разговора — интенсивного, насыщенного, серьезного. Небольшая по объему, но весьма концентрированная по наполнению книга Козлова служит отличным импульсом к подобному разговору, и в заглавии ее как раз звучит не столько вопрошание (благородное, но неблагодарное и часто, к сожалению, безответное), сколько утверждение необходимости дискуссии. Однако внятной дискуссии за время, прошедшее с выхода книги (а составляющие ее эссе публиковались на портале Prosodia еще раньше), пока не заметно. Попробую немного «раскачать» беседу, помня о том, что, говоря о различных взглядах на сущность и назначение поэзии, мы всегда сталкиваемся со множеством «правд» без единой истины. Поговорим о «правде» Козлова.
«Зачем поэзия» написана динамично, плотно, афористично, полна интригующих формулировок, читается легко и почти на каждой странице провоцирует на несогласие. Уже небольшое предисловие изобилует утверждениями различной степени спорности. Почему именно сегодня так необходимо «переосмысление» роли поэзии, если очевидно, что она еще в полной мере не осмыслена? И осмысление это — задача всей жизни каждого конкретного поэта, ибо каждый, как известно, «выбирает для себя».
Не совсем ясно, почему в качестве художника поэт должен обязательно «выживать» (на слове «выживание» Козлов делает максимальный упор). Тот факт, что социальным выживанием поэт платит за полноценную жизнь духа, утвердился далеко не сегодня. Однако эта узаконенная еще в романтизме коллизия («цифровизация» и прочие приметы дня сегодняшнего, на самом деле, в ней мало что меняют) подается Козловым как примета именно современности. Ясно как день: чтобы иметь физическую возможность писать стихи, поэт должен овладеть профессией, которая будет его худо-бедно кормить (эту необходимость часто проговаривает, например, Виталий Кальпиди).
В общем, уже по прочтении предисловия формируется ощущение неясности, некоторой умозрительности (ее, кстати, замечает за собой и сам автор), которое будет сопровождать меня на протяжении практически всей книги: вопросов много, ответов мало. И все же главное (вспоминая предисловие к «Герою нашего времени») — «поставить диагноз», вызвать на диалог, а это у Козлова получается.
«Определение поэзии не должно быть единственным», — утверждает Козлов и напоминает (увы, не последний раз за книгу) пресловутого «Капитана Очевидность». Спасибо, кэп, определение поэзии единственным быть и не может, иначе одноименное стихотворение Пастернака («Определение поэзии»), например, закрыло бы тему. По Козлову, утрируя, сегодня поэзия — хороший способ провести время между свиданием и футболом, а завтра — миссия и смысл жизни. Так не бывает. По мне, все «определения поэзии» (независимо от степени их отрефлексированности) живут и работают в поэте в нераздельности и неслиянности, в цельнооформленном единстве.
Обратимся, наконец, к самим эссе. Первое из них именуется «Поэзия как собирание человека». В этой формулировке мне слышится некая наивность, странная для профессионала, которым Козлов, безусловно, является. Да, поэзия может «собрать» самого поэта, может поспособствовать «собиранию» читателя-сотворца, но «нового человека» как антропологический тип она, как мне представляется, не пестует. «Собирание человека» — это зона экзистенциальной ответственности самого человека, ничто внеположное ему — его не соберет. Он может «собрать» себя сам изнутри, в том числе (но не исключительно) за счет взаимодействия с поэзией, ни больше ни меньше.
Многое из того, что представляется мне (и уверен, что не только мне) самоочевидным, Козлову почему-то таковым не кажется. На многих тезисах ощутим налет штампованности, клишированности. Так, чтобы понимать, что «красота» поэзии и «красивость» гламурных журналов — не одно и то же, не нужны «двадцать лет чернового труда критика, редактора, исследователя». Да, удивительная целостность, явленная поэзией, противостоит дискретности и «лоскутности» сознания современного человека. Но ведь поэзия оцельняла сознание, центрировала и фокусировала мировосприятие еще в Древней Греции. Помнится, Аристотель говорил о законченности как залоге подлинной эстетической красоты художественного произведения и непременном условии катарсиса. Принципиальной разницы с современностью здесь не вижу, тем более что у древних греков тоже разнообразных стрессов хватало.
Далее Козлов рассуждает о формулах и об искусстве как поиске формул, а также о способах рационального выведения таковых. Рассуждения эти выглядят хлипкими и, думается, в достаточной степени «опрокидываются» известными строчками Марины Цветаевой:
Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота — ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы —
Один ответ: — Откуда мне сие?
Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты
Закон звезды и формула цветка.
Экспериментальный потенциал поэзии, на котором акцентирует внимание Козлов, трудно отрицать, известна, например, концепция «трех Э» Казарина — энигматичность, эвристичность, эксперимент как «три кита» стихотворения. Понятно и то, что эксперимент здесь залегает гораздо глубже языковых новаций, в области экзистенциального. Однако сама используемая Козловым метафора поэзии как лаборатории по выведению нового типа человека неизбежно заставляет вспомнить Гомункулуса из гетевского «Фауста». Само слово «выведение» подразумевает определенную искусственность и неполноценность полученного результата, в то время как поэзия зиждется на основах органики и естественности, «искусственное оплодотворение» здесь вряд ли возможно. В лаборатории можно создать эрзац, клон, киборга, но не человека, не живой организм стихотворения. «Закон звезды и формула цветка» принципиально невыводимы. Поэтому попытки описания поэзии с помощью «лабораторных» метафор обречены примерно в той же мере, как попытки вдавить обратно в тюбик выдавленную из него зубную пасту. Финал же эссе несколько даже смущает возгонкой пафоса до проповеднического.
Второе эссе называется «Поэзия как полная противоположность идеологии». Сегодня, когда в так называемой «актуальной поэзии» (да и не только в ней) поэтическое сплошь и рядом подменяется политическим, внятно проговорить их сущностную полярность, конечно, не лишне. Однако яростно защищать поэзию от идеологии, как это пытается делать Козлов, все равно довольно странно, ибо поэзия сама с этим прекрасно справляется, как справлялась всегда. Да и «агитационная» поэзия бывает разная: недаром Мандельштам говорил о «Нигде кроме, как в Моссельпроме», что Маяковский «не поэзию опускает до масс, а массы поднимает до поэзии». Настоящая «агитка» требует гораздо большей виртуозности и мастерства, чем типовое лирическое нытье комнатной температуры. Козлов пропагандирует поэтический эскапизм, вероятно не совсем отдавая себе отчет в том, что поэзия может либо переплавить (но не подменить!) идеологию, оставшись поэзией и даже закалившись, либо раствориться в ней (что, увы, происходит гораздо чаще), перестав таким образом быть поэзией. Но вместе они никогда не сосуществуют: тут всё по Кьеркегору — или-или. Поэт всегда имеет право уйти в «башню из слоновой кости», но должен при этом понимать, что на соседней (или даже на этой же) «башне» может быть установлен вечевой колокол, который, по Лермонтову, «простым и гордым языком» звонит «во дни торжеств и бед народных».
Я бы не сказал, что нынешняя известная идеологическая поляризация российского общества оказала какое-то ощутимое влияние собственно на поэзию (не путать с литпроцессом). Кто был поэтом до СВО, тот поэтом и остался (изменив порой тематико-мотивное наполнение стихов, но и только), кто не был — так и не стал, ибо поэтом, как мы уже выяснили, человека не делают внеположенные ему события. Поэзия Анны Долгаревой, например, остается поэзией ровно настолько, насколько она поэзия (в этом лично меня убеждает как книга «За рекой Смородиной», так и христианский цикл «Осенние молитвы», опубликованный в мартовском «Урале»). На тех же основаниях поэзией остается творчество Сергея Гандлевского, чью значимость для отечественной изящной словесности ничто поколебать не способно. Посему различные «отменяния» поэтов и поэтик с обеих сторон ничего, кроме грустной усмешки, вызвать не могут.
Художник выбирает независимость, спору нет, «тайная свобода» (Блок) — его основная ценность и спасительный воздух. Но эту независимость вовсе не обязательно реализовывать в форме апологии эскапизма. Становление художника не подразумевает автоматически аннигиляцию им в себе гражданина: кто кем «быть обязан» (вспоминая хрестоматийного Некрасова) и в какой степени — каждый опять же «выбирает для себя». Державин, Некрасов, Маяковский вполне реализовали свою поэтическую независимость в рамках поэзии, которую принято называть гражданской. В поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский в первую и главную очередь выражает именно человеческое восхищение Лениным, а уже во вторую — свою идейную солидарность с коммунистической идеологией. Именно это проводит мощный водораздел между поэмой Маяковского и тоннами заслуженно забытых ныне холуйских и выхолощенных славословий пролетарскому вождю.
Конечно, художник пребывает в «точке вненаходимости», но этой точкой его «зона влияния» не исчерпывается. Он впускает в себя свое время, мир с его текущими проблемами, чтобы осмыслить его с точки зрения вечности, сказать о вечном «сквозь» свою эпоху. Поэтому заявление о том, что художник не может быть гражданином, оставаясь при этом художником, критики не выдерживает, а праведный гнев автора уходит в пустоту.
Теперь об «ответственности художника». Художник «говорит всё», заявляет Козлов. Да, но «всё» можно (и нужно) сказать через частности. «Идеологическое» в этом смысле — материал для поэзии, не хуже и не лучше любого другого, и в этом качестве не может быть отвергнут. Тютчевское «всё во мне, и я во всём» — это ведь не только о поэте во вселенной и вселенной в поэте. Это и о наличествующей социокультурной и политической реальности, в которой Тютчев, будучи дипломатом самого высокого ранга, разбирался отлично. И дорог он нам не только своим космизмом, но и своей философией истории — философией, выраженной через художественные образы. Расширяя и универсализируя призвание художника, Козлов на деле его сужает и обедняет. Отвернувшийся от «идеологии» Блок не был бы тем Блоком, которого мы знаем и любим, и не факт, что написал бы поэму «Двенадцать». Мандельштам не был бы Мандельштамом не только без «Мы живем, под собою не чуя страны», но и без «Оды» Сталину. «Всё» художника — это знаменитое «всё» Александра Введенского, которого тоже вне его эпохи и трагической судьбы обэриутства рассматривать невозможно. Таким образом, позиция Козлова вновь обнаруживает уязвимое, наивное и попросту опасное прекраснодушие...
Затеянный разговор никому не обещал быть коротким, а посему — продолжение следует...
1 Ростов-на-Дону: Prosodia, 2023. — 72 с.